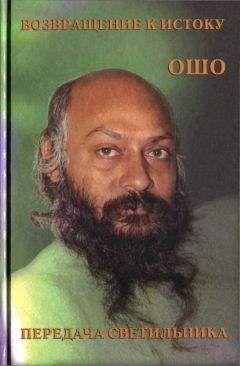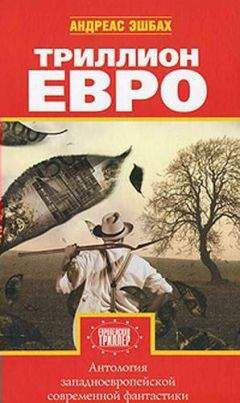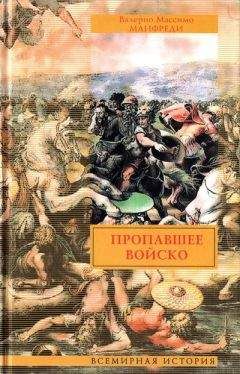Они достигли Афин в середине месяца гамелиона. Город был охвачен волнением в связи с подготовкой к театральным представлениям. Они купили в квартале Керамик великолепный дом с садом, поселились там и занялись репетициями, не жалея денег: нанимали актеров и хор, заказывали костюмы, выбирали маски, строили сценические машины. Афиши уже висели в театре, на акрополе и на агоре, но Дионисий, за свой счет, велел разместить их во многих других частях города, в самых людных местах, под портиками, в библиотеках. Он был уверен, что его имя, во всяком случае, привлечет внимание людей.
Он лично присутствовал на репетициях и без колебаний выгонял актеров, не справлявшихся со своими ролями, чтобы нанять вместо них других. Так же точно он поступал с хором и музыкантами, которых заставлял бесконечное количество раз повторять мелодии танцев и песнопений, коими сопровождалось представление.
И наконец настал великий день.
Театр был полон битком, Дионисий и Филист сидели на специально отведенных для них местах, среди городских архонтов, верховных жрецов и жреца Диониса, руководившего празднеством. Трагедию сыграли безупречно, в ней даже было несколько довольно сильных мест, отражавших опыт, полученный автором в ходе многочисленных войн, изнурительных переговоров об освобождении заложников и пленников. Сцена, в которой старик Приам становится на колени и целует руки Ахилла, умоляя о выдаче тела Гектора, а мрачный хор троянок вторит его просьбам словно плач, потрясла публику. Сам Филист с удивлением обнаружил, что глаза его влажны от слез. Возможно ли, что автор способен на чувства? Причем столь сильные, что он сумел донести их до зрителей, смотревших спектакль?
Вопрос праздный. Дионисий был и останется загадкой без разгадки, сфинксом — до конца своих дней. И все же Филист, следивший за этой сценой, узнал в ней столько черт характера Дионисия, перед глазами его пронеслось множество эпизодов прошлой жизни, мгновения славы и унижений. Дионисий всю жизнь играл свою роль подобно актеру; он часто таил, скрывал, прятал свои человеческие чувства, если только их имел, под непроницаемой маской тирана.
По окончании представления раздались аплодисменты — не оглушительные, конечно, но и холодным приемом это тоже не являлось, учитывая, что в этом театре ставились произведения Эсхила, Софокла и Эврипида и что публика тут была самая взыскательная в целом мире.
А когда празднество завершилось, трагедия, к некоторому удивлению самого автора, получила первую премию. Многие говорили, будто к участию в соревновании специально допустили поэтов со столь скромными дарованиями, что даже такой посредственный сочинитель, как Дионисий, смог одержать победу на их фоне.
Как бы там ни было, Дионисий отметил свой триумф весьма торжественно и пышно, устроив пир в саду у подножия Гиметта, куда пригласил всех представителей афинских высших кругов.
Незадолго до начала ужина Филисту сообщили, что прибыл посланец с новостями из Сиракуз. Он лично принял гонца, подозревая, что новость может испортить праздник. И он не ошибся.
— Карфагенские верфи не сгорели, — заявил прибывший, как только Филист попросил его рассказать, в чем дело.
— Что это значит: не сгорели?
— К сожалению, нас обманули. Карфагеняне — мастера в таких делах. Нам следовало догадаться.
— Это невозможно, — возразил Филист. — Наши осведомители уверяли, что видели, как над островом поднимаются языки пламени и дым.
— Верно. Но все это тоже было лишь постановкой. Они сожгли старые, негодные обломки, а флот в это время прятался в разных потайных гаванях вдоль северного побережья.
— Переходи к главному. Что толку тянуть? Что произошло?
— Новый карфагенский наварх ворвался в порт Дрепан с первыми лучами утренней зари, ведя за собой двести боевых кораблей. Наши оказались в слишком очевидном меньшинстве: их разгромили.
Филист отправил гонца восвояси и некоторое время размышлял о том, что делать дальше. Наконец он решил ни о чем не сообщать Дионисию — пока, чтоб не огорчать его. Он возлег на свое ложе и стал есть и пить, стараясь выглядеть непринужденно.
В ту же ночь, после того как гости ушли, примерно во время третьей смены часовых, Дионисий почувствовал себя плохо. Аксал побежал будить Филиста:
— Хозяин болит.
— Что ты говоришь, Аксал?
— Он очень плохо, пойдем скорей.
Филист поспешил в покои Дионисия. Тот находился в ужасном состоянии: тело его содрогалось от судорог и рвотных позывов, он вспотел, но при этом оставался холодным как лед, кожа приобрела пепельный оттенок, ногти потемнели.
— Беги за его врачом, Аксал, скорее, он живет в трех кварталах отсюда, в сторону агоры. Беги, ради богов! Беги!
Аксал устремился на улицу, а Филист попытался приподнять Дионисия, усадить, чтобы тот дышал; он вытер другу лоб, смочил водой сухие губы. Постель пахла потом и мочой.
Дионисий как будто на время пришел в себя, силы вернулись к нему.
— Все кончено, — пробормотал он. — Все кончено, друг мой.
Филиста тронуло это обращение, которого он вот уже столько лет не слышал, и он крепко сжал руку Дионисия.
— Что ты такое говоришь, гегемон, что ты говоришь? Сейчас придет врач. Ты поправишься. Ты просто слишком много выпил — вот и все. Крепись, вот увидишь…
Дионисий прервал его, устало подняв руку в своем привычном повелительном жесте:
— Нет, я не ошибаюсь. Смерть холодна… чувствуешь? Какая нелепая судьба! Я всегда сражался в первых рядах, меня пять раз ранили, а умереть мне уготовано в собственной постели, мочась под себя… как ничтожество… Я никогда не увижу зарю новой эры, о которой всю жизнь мечтал… Сицилию… ставшую центром мира…
— Нет же, ты увидишь ее. Мы вернемся домой и закончим эту войну, раз и навсегда. Ты победишь… Ты победишь, Дионисий, потому что ты — самый великий.
— Нет… Нет. Я послал на смерть стольких друзей: Дориска… Битона… Иолая… и моего Лептина. Я пролил столько крови — ни за что.
На улице раздались одинокие шаги. Лицо Дионисия просветлело.
— Арета… — проговорил он, напрягая слух. — Арета… это ты?
Филист опустил глаза, влажные от слез.
— Она здесь… — ответил он. — Она здесь, она идет к тебе.
Дионисий впал в забытье и захрипел. А потом прошептал еще:
— Помни, что ты мне обещал. Прощай, хайре… — и больше ничего.
Вскоре в комнату, запыхавшись, вбежал врач, сопровождаемый Аксалом, но было уже слишком поздно. Он смог лишь засвидетельствовать смерть.
Аксал оцепенел при виде случившегося. Лицо его превратилось в каменную маску. Он затянул траурную, жалобную песнь, душераздирающий плач своего народа, каким его собратья провожали в путь великих воинов. Потом он смолк и уже не нарушал тишины. Он с оружием в руках нес караул возле останков своего господина — день и ночь, не прикасаясь к еде и питью, и не покинул его даже тогда, когда гроб погрузили на корабль, чтобы доставить на родину.
В Сиракузах Филист лично занялся похоронами. Он велел соорудить гигантский погребальный костер во дворе крепости Эвриал, на вершине Эпипол, чтобы весь город мог видеть душу Дионисия в вихре огня и искр, уносящем ее на небо. Тело, в самых великолепных доспехах, положили на костер в присутствии всей армии, выстроившейся в полном боевом порядке, и десятикратно двадцать тысяч воинов разных народов прокричали его имя, а пламя тем временем, рокоча, поднималось к зимнему небу.
Глубокой ночью Филист в сопровождении Аксала явился собрать его пепел, и вместе они отправились к захоронению Ареты и положили останки Дионисия в ту же урну.
Исполнив этот простой ритуал, он отер глаза и повернулся к кельтскому воину, пугающему своей заметной худобой, приобретенной в результате воздержания, с лицом, осунувшимся от горя, с черными кругами под глазами.
— А теперь возвращайся к себе, Аксал, — сказал ему Филист, — и хватит поститься. Своему хозяину ты больше не нужен… А нам нужен.
Они ушли, и захоронение погрузилось во мрак и тишину.
Но когда шум их шагов окончательно затих, в темноте раздалась одинокая песнь — пронзительный гимн, звучавший в первую ночь любви Ареты и Дионисия.
И в последнюю.
Никому так и не удалось выяснить причину его смерти. Поговаривали, что Филист заметил изображение дельфина под кубком, из которого его друг и господин пил в ту ночь на пиру. Вспоминали о том, что Дионисий послал на казнь многих членов Братства во время последней большой чистки, а также о том, что он бесцеремонно конфисковал кассы Братств в других городах, чтобы покрыть расходы на надвигающуюся войну, не обращая внимания на предупреждения.
Некоторые попросту объясняли все кутежом, последовавшим за победой в соревновании трагиков на Линнеях. Прочим казалось, что длинная рука Карфагена нанесла этот удар: ведь только так они могли уничтожить врага, иными способами не устранимого.