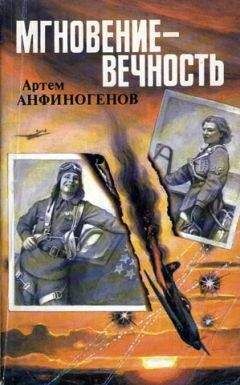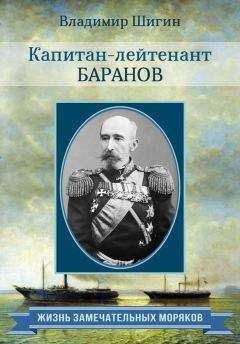— Запросите у «Реки» условия, — наставлял капитана Хрюкин, теряя терпение. — Потребуйте время прихода!
С таким наводчиком резерва не вытянуть, но гвардия-то, гвардия!..
Хрюкин вскинул бинокль в ту сторону, где готовились на перехват дежурные звенья. Основные силы полка асов на перегонке; едва наметился в обстановке спад, повеяло передышкой, он сам спровадил свою гвардию в тыл, за самолетами, — гвардия отдых заслужила.
Дежурят молодые ребята, зелень. Немцы при первом налете застали их врасплох. Нет, не проспали, не засиделись истребители на старте, поднялись вовремя... внешне все как будто в порядке, а должной собранности, внутренней готовности к бою не проявили. Пассивность действий, отсутствие смелых, разрушительных атак. Уступили «лаптежникам» дорогу, пропустили на Батайск...
Причина непредвиденная, хотя и простая: противник, укрывшись за миусским рубежом, в последние недели в небе как-то затих, практически, можно сказать, бездействовал. Впервые за два года войны смогли наши летчики вкусить радость свободных, ничем не стесненных действий, которых естественно было ждать сразу после Сталинграда. Тридцать — сорок минут полета, сопряженного с возможным риском, действительной опасности почти не представляли: драться в воздухе было не с кем. Можно было подумать, что эскадра «Удет», квартировавшая по донецким поселкам, испустила дух. На что рубака Амет-хан Султан, а за месяц не провел ни одного боя. «Прикрыть... район учений!» — вот такие задачи получал Амет-хан: пехота отрабатывала в армейском тылу прорыв укрепполосы, на всякий случай ей создавали крышу... Вылеты шли в зачет боевых, вознаграждались стопкой, освещались прессой. И день, и два, и десять — такая жизнь... Ореол Сталинграда сиял над ними, не требуя новых усилий и риска. Что же, Амет-хан навострил лыжи на армейский дом отдыха, взялся шить футбольный мяч. Лоскутья кожи монтировал внутренним швом, а как пускать дратву, забыл... Швец-любитель, что с него взять. Набивал в Алуште каблучки отдыхающим дамочкам, а Тимофей Хрюкин-старший, отец, сапожным делом кормился, брал на зиму подряды; и дратву ему сучил и вел по шву противоходом подмастерье-сын... «Из шорников многие в люди вышли, — сказал Хрюкин, вращая надетую на кулак покрышку и оценивая работу со всех сторон. — Маршал Жуков, например...» Слово за слово... он отметил: переменился Амет-хан. Помягчел. Расслабился. Сам же в том прямодушно, с улыбкой разминая покрышку, признался: «А хорошо бы, товарищ генерал, вообще их больше не встречать!» Летчика понять нетрудно: желание покоя, тишины теплится в душе солдата. Вот только возгорелось оно некстати.
Вместе с лексикой люфтваффе постигал Хрюкин и нравы эскадры «Удет». «Немецкий летчик силен там и тогда, где и когда он имеет на своей стороне численное превосходство» — вывод, сделанный прошлой осенью за Волгой, сохраняет свою значимость и нынешней весной на Дону. Вот что следует, однако, добавить. Сталинградская катастрофа необыкновенно изощрила нюх, чутье асов люфтваффе. Умение распознать уязвимое место и нанести по нему незамедлительный удар в натуре таких акул, как Брэндле, как Киршнеер. Неспроста их имена разносятся в эфире. Будто разгневанный бог Вотан воскрешает над устьем весеннего Дона сталинградский август, отошедший в прошлое: полнеба занимает фаланга «юнкерсов», нацеленных на город. Говорливость, немцам несвойственная, выдает радость вновь обретенного — да, это так — численного превосходства, предвкушение успеха, жажду боевого торжества.
— Воздух! — кричал капитан, нахлобучивая шлемофон, как каску. Ему повиновались нехотя: впору присматривать колеса, мотать отсюда, пока не поздно. — По щелям!..
— Где посыльный, где инженер? — негодовал Хрюкин. — Почему сидят «ЯКи»? Или гвардейское звание носить надоело?!
С ужасающей ясностью видел Тимофей Тимофеевич, что если «юнкерсы» пройдут истребительный заслон, снова прорвутся к городу и все ухнет, повалится в тартарары, то прежде всего потому, что он, генерал Хрюкин, из рабочих, член партии с двадцать девятого года, недосмотрел... отправил лучших своих бойцов на перегонку, не предусмотрел самоуспокоенности, не предостерег, как был обязан, неискушенных от соблазна легкой жизни. «Начтыла Рябцев... совковые лопаты... уголька, — застыдился Хрюкин своих недавних речей. — Нет, одно в наших силах, — зарекался он на будущее, — одно: искать и устранять ошибки. А предсказывать, объявлять сроки желанных событий — несерьезно!»
Думая так, он чуда не ждал.
Нащупал противник слабинку, подгадал момент, когда силы отняты тысячекилометровым маршем и второе дыхание не наступило. «Один, как гигантский утес...» — проносились в его голове всем памятные, дорогие ему слова. С полуопущенным биноклем в руках, замерев на ветру в ожидании, он относил их к себе, к своей выстраданной в противоборстве на Волге и там же развившейся способности чувствовать в такие минуты нерв армейских аэродромов, раскиданных за его спиной на тридцать, сорок, сто километров, видеть лица в горячке злой, упрямой работы, слышать мысли, обращенные к полю боя, — с такой осязаемостью и полнотой, будто сам он бежит, спотыкаясь, по стоянке, набрасывает лямки парашюта и взлетает по тревоге, остужая мокрый от пота лоб высотой. Он знал выстраданное Сталинградом умение противостоять вероломству врага, другой надежды в нем не было. Его приводная — путеводная для летчиков рация, летчики и он — монолит. Они и есть волжский, сталинградский утес на пути «юнкерсов». Когда атмосфера раскалена, когда умы и души множества людей во власти стихийного чувства неотвратимости, один резкий, внезапный ход может все изменить. Ликвидировать кризис, повернуть колесо судьбы в другую сторону. Один непредвиденный ход — так бывало на Волге...
— «Река» жмет, товарищ генерал!
— Состав? — потребовал Хрюкин.
— Звено подняли... четыре «ЯКа»...
— «Негусто!»
— Дорожка проложена... всем взлет, всем! Высота?
— Нет высоты.
— Плохо!.. Кто ведет?
— «Река-семь»...
— Фамилия? «ЯКи» в Сталинграде при нехватке сил были сверху! Кто командир?
— Не успел набрать высоту... «Теха-матеха, наводчик, не знает ведущего!»
— Жмет «Река-семь», не дышит... с минуты на минуту... вот он!
Хрюкин опустил запотевший бинокль, без нужды подкручивая барашек наводки. Фамилия командира звена, вызванного рацией, в плановой таблице не значилась, да ею никто и не интересовался. Он явился в последний момент, когда всё — как всегда в последний момент — на пределе, и трудно было решить, понимает ли он свое назначение. Замысел его не сразу угадывался. Во всяком случае, Хрюкин, пытаясь прикинуть на глаз, где примерно, в какой точке встретятся «юнкерсы» и «ЯКи», развившие скорость, сделать этого не смог.
Бой завязывался над аэродромом.
«Сталинградский клин» — окрестил Павел отливавший металлом и сталью боевой порядок «юнкерсов», шедших к Ростову. Солнце, косо струясь сквозь разрывы облаков, пятнами пробегало по живому телу колонны. Чувствуя в себе силы для верного удара, Павел от набора высоты отказался: сверху к строю скрытно не подойдешь. Дымка слоилась над прогревавшейся землей. Мглистый воздух внизу, над поймой, смягчая краски, размывая очертания предметов, был ему на руку. Флагман сверкал на острие клыка, как исполнитель воли Вотана. В его холодных, острых бликах играл вызов приманки — дразнящей, как бы заговоренной. Смертной, однако же. Смертной. Ты чтишь Вотана, флагман? Надлежит тебе ныне трепетать перед «ЯКом».
Не сводя с него глаз, Павел прижимал, разгонял свой «ЯК» в пологом снижении, весь собравшись для «подсечки», для «удара под корень». Пан или пропал, все решает глазомер. Глазомер и выучка, сработанность звена; при таком численном превосходстве и таком прикрытии, как у «юнкерсов», в одиночку к желанной точке не прорваться, на ударную позицию в одиночку не выйти. Видя, куда метит лейтенант, повинуясь ему, ведомые держались цепко, с их крыльев, сверкавших клинками, стекали светлые струи инверсии.
Волга отозвалась болью в плече, зашибленном, когда он «вмазал» в Баранова, разбитом, когда он покончил с «африканцем»... гвоздь загнали Павлу в плечевую чашку. «Рано в небо вылез, надо было повременить», — понял он, страшась боли. «Бьем в голову», — скомандовал он сипло, терпя боль. Бить в голову, во флагмана — и значило «рубить колонну под корень». Бить внезапно, снизу, из мглы, стелившейся над поймой, повинуясь порыву, какому-то ритму, зазвучавшему в нем при разгоне. Вместе с тем он видел, что не седые усы, не вожжи, а бязевые полотенца, полотнища инверсии срываются с крыльев его «ЯКа», бесконечно их расширяя, — влажный воздух не маскировал настильное движение звена, а выдавал его с головой. Порыв — предощущение развязки и беззащитность перед жутким, не сбившимся с курса флагманом смешались, расчет на внезапность рухнул, он обмер — и тут же все перестало существовать: осталось только небо. Одно небо. Оно пошло, повинуясь Гранищеву, колесом, острый кок винта прошивал небо, все еще пустынное, как корабельный бушприт. Вдавленный в сиденье, с отвисшей челюстью и по-бульдожьи оттянутыми книзу веками, ничего, кроме карусели неба, не видя — ни «юнкерсов», ни «мессеров», ни собственных «ЯКов» прикрытия, — Павел ждал: наколет он флагмана задранным носом? Упредит его трассой? Или промажет, подвесит всех без скорости под огонь «мессеров»? Округлая кабина и два мотора «юнкерса» скорпионом вошли в меловую сетку прицела. Павел ударил, его тряхнуло, на лобовом стекле кабины «ЯК», как в зеркале заднего вида, отразились блики пламени за спиной. Он высек этот клуб огня, как кресалом, ударив по флагману. Проверяя, не создалась ли позади опасность, он увидел, как дымит «ЯК», прикрывавший его слева, как валится «ЯК», державшийся справа. Светлые брызги осколков, зависших фейерверком, когда он оглянулся, вызвали прилив ожесточения. «За Лену!» — воззвал Павел во власти этого чувства, заглушившего боль. Мелкая щепа, куски дюраля в сиянии огня в том месте, где только что, покачиваясь и шевеля плавниками рулей, диктовал события флагман, переменили баланс атаки. Ближайший к Павлу «мессер» при виде россыпи обломков дрогнул... Это Павел уловил, этой оторопи врага ему хватило. «Терзать до последнего!» — крикнул он товарищу, вставшему с ним рядом. Земля передала: «Поднят Амет-хан Султан». Хорошо, что Амет-хан. Именно Амет-хан. Не видя его, не зная, откуда он вклинится, Павел глотнул радость своевременно пришедшей подмоги. Амет-хан довершит, Амет-хан доконает. Терзать врага, терзать себя до полного избавления от боли — не той, что хватает и саднит плечо, а той, что жжет и сушит сердце, не утихая.