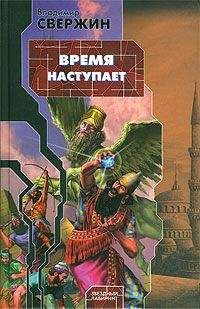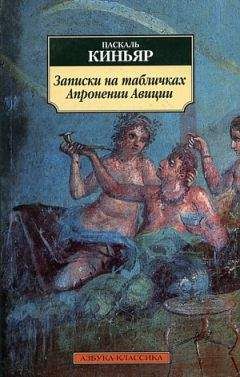— С той поры я задумался, — спросил Седекия, — зачем пожалел врага? Он был груб со мной, бил, запрещал плакать, страдать. Никогда со мной не разговаривал. Зачем я врал, зачем боялся, зачем губил людей — ох, скольких я погубил! Зачем зарезал твоих братьев, Нур-Син? Зачем все это? Зачем губил людей твой прадед Ашурбанапал. Зачем ты убиваешь людей, Кир?
— Я их не убиваю. Мои руки чисты, — ответил юноша.
— Пока. Ты — царь, ты будешь губить людей. Но зачем? Это нужно Господу? Это нужно Мардуку? Этим ты прославишь священный огонь?
Ему никто не ответил, только спустя какое-то время Нур-Син спросил.
— Ты нашел ответ?
— Да. Бог поговорил со мной, обещал прислать на землю Спасителя. Он явится, объяснит, зачем столько зла. Он скажет, так поступать не следует. Тогда откроется Вавилон небесный. Распахнутся Врата небес, и все мы увидим, что это хорошо весьма. И не едино лицо будет у Спасителя…
Кир вдруг перебил его.
— Их будет три? И звать их будут Саошиант?
— Не знаю, — признался старик. — Только ведаю, что единым добрым поступком мне тоже будет позволено заслужить царство небесное. Мне — царю иудейскому Седекии, брату Иосину и Иехонину, потомку Давидову, погубителю священного града и своего народа, который изгнал меня от своих домов, лишил земли и воды…
— Но как ты оказался здесь? — воскликнул Нур-Син.
Старик улыбнулся.
— Твой господин — змей и искуситель. Он таит в сердце грех и содрогается от близости расплаты…
Седекия внезапно оборвал речь, затем продолжил спокойным и тихим голосом.
— Когда свершилось насилие над Лабаши и к власти пришел Набонид, о чем тайком шепнул мне страж, за мной пришли. Подняли на руки и понесли куда-то. Я думал, несут на казнь, видно, твой хозяин, Нур-Син, не простил мне строптивости в ту пору, когда меня вознес Амель-Мардук, а твой отец гибели сыновей. Я бы сам пошел, побежал бы, если бы ноги меня слушались. Сердце трепетало от страха, а бессмертная моя душа пела, радуясь скорому освобождению. Знал бы ты, как трудно слепому сидеть в темнице, куда и лучику света не проникнуть! Я полагал, мне худо, оказалось, бывает и хуже. Набонид выдумал мне новую кару — заявил, что я ему больше не нужен и могу идти на все четыре стороны. Могу возвратиться в Иудею, могу остаться в Вавилоне. Меня не будут преследовать. Иди, сказал он, и я пошел.
Добрался до канала Хубур, но мои сородичи отвернулись от меня. Только Иезекииль приблизился, поговорил со мной. Паршивой овце, сказал он, нет места в стаде, ибо если парша распространится, пастырь погубит все стадо. Я не противился! — старик вновь вскинул руку с поднятым указательным пальцем. — Я не возразил, я решил утопиться. Но мне не дали утопиться. Как иначе я мог покончить с собой? Забрести на высоту и броситься вниз, но где эта высота? Так бродил, пока не встретил этого мальчишку.
Он пнул поводыря пяткой в бок. Тот поднял голову, расширисто и сладко, словно котенок, зевнул и вновь свернулся калачиком.
— Он был вором. Сначала ему отрубили левую кисть, потом, когда вновь попался, правую. Как ему добывать хлеб? Сородичи изгнали его из поселения сказали, нам не нужны преступники. Сам он из потомков пленных египтян, которых когда-то расселил возле Вавилона Навуходоносор. Говорит, отец умер, матери трудно стало, есть хотелось. Что ж, и так бывает…
Старик замедленно покивал, нащупал хворостинку и, не глядя, подбросил ее в огонь. Пламя едва не коснулось его пальцев, затем язычки огня с радостью приняли жертву, затрещали, заговорили о том, что благое дело зачтется. Кир во все глаза смотрел на костер, однако слова не вымолвил. Затем обратил свой взор на слепца.
Седекия продолжил.
— Идем мы неведомо куда. Днем топаем, просим милостыню, вечером отдыхаем. Порой добрые люди делятся с нами едой… — он выразительно взглянул на Нур-Сина. Тот торопливо протянул старику жареную птичью тушку. Тут же мальчишка вскинул голову, его угостил Кир.
Небо вдруг разом очистилось от туч. На нем было столько звезд, что голова кружилась разглядывать их все по очереди. Висели они низко, над самыми вершинами, прислушивались и иногда яркими росчерками, не удержавшись, падали вниз. Когда Седекия и поводырь наелись, стало радостно от того, что старик был сыт, мальчишка был сыт. Тот ловко сжимал культями жареную утку, сожрал ее всю, до последней косточки. В отличие от него царь иудейский ел аккуратно, косточки обсасывал, при этом жмурился от удовольствия и даже что-то напевал.
Утром конный разъезд персидского царя отыскал господина. Тот приказал доставить слепца и мальчишку в Сарды.
— Ты много знаешь, царь иерусалимский? — спросил он, когда старика и мальчишку привязали к спине лошади.
— Много, государь.
— Вот и расскажешь мне, что знаешь.
— Хорошо, государь, а потом вновь отправлюсь в путь. Говорят, в той стороне, где восходит солнце, лежит Индия. Хотелось бы взглянуть на нее.
— Как? — не удержался от вскрика Кир.
— Душой, государь.
Спустя две недели как горцы страны Хуме перешли границу Вавилона, Луринду, отчаявшись, решилась наконец послужить богине любви, войны и плодородия Иштар. С утра в домашней бане напарилась, вымыла тело — терла руками кожу и плакала. Мысль, что кто-то чужой, грубый, начнет тискать ее, касаться грудей, совать руки, куда не просят, приводила женщину в ужас. Это была великая жертва, но как иначе умилостивить богиню?! Было смутно и страшно, тем более что помощи от Иштар ей вряд ли дождаться. Не верилось, что оскорбленная такими долгими поисками ребенка небожительница простит ее, очарованную словами иного всемогущего и одинокого повелителя, создавшего небо и землю. Исполнить долг склоняла ее и Гугалла, вдруг поменявшая неприязнь к невестке на сочувствие. После отъезда Нур-Сина она часто навещала его дом. Сначала помалкивала, оттопыривала нижнюю губу, говорила редко, с укоризной. Спрашивала, сколько того, сколько этого запасла невестка. Проверила кладовые, дала нагоняй арабам, выругала Нана-силим довела старуху до слез. Потом однажды осталась на ночь, затем еще раз и еще и как-то призналась, что жена среднего сына Наида, поселившегося со всей семьей в отцовском доме, ни во что ее не ставит.
Гугалле было немало лет, но до сих пор она была красива и соблазнительно обильна телом. Свекровь тщательно следила за собой, заставила и Луринду заняться притираниями, научила пользоваться черной краской для подведения бровей и ресниц, зеленой — для наведения теней вокруг глаз и красной — для губ и щек. Вот только красить хной ладони и ступни, а также делать татуировку, Луринду наотрез отказалась. Сказала, что дочерям шушану подобные излишества не к лицу.
— Ну и правильно, — подумав, согласилась Гугалла, потом спросила. Что надумала насчет наложницы?
Луринду расплакалась и с горя, с рыданиями и всхлипами призналась, что чужая женщина в объятиях Нур-Сина, ей что нож в сердце. Если этого не миновать, она попросит Нур-Сина выделить жене ее долю имущества и поселить отдельно, чтобы только не видеть, не плакать, не поддаваться злому.
Гугалла задумалась. Молчала день, другой, потом тайно пригласила в дом Нур-Сина знахарку и приказала ей проверить невестку. Та собрала месячные в глиняный пузырек, два дня отсутствовала, потом явилась и также по секрету сообщила обеим женщинам, что Луринду здорова, и ей, знахарке, непонятно, почему Иштар обходит ее милостью. Она заявила, что приготовит особое снадобье и, когда Нур-Син вернется домой, пусть обмажет детородный орган, и Луринду пусть не стесняется — слижет все это перед зачатием.
От подобных рецептов у молодой женщины закружилась голова, она едва в обморок не упала. Однако Гугалла не стала ее корить, наоборот, посоветовала не спешить и, если она уж такая щепетильная, пусть сходит и послужит Иштар.
Луринду не выдержала и, не скрывая язвительности, спросила свекровь видать, та не раз занималась исполнение обряда.
— А как же, милая, — Гугалла совсем не обиделась. — Потому у меня четверо сыновей, а надежды на Набузардана не было никакой. Им бы все воевать.
Он сделала паузу потом с нескрываемой горечью добавила.
— Мой-то падок был до самых грязных шлюх, которых к нему в шатер толпами таскали. На меня у него уж сил не оставалось. Одна надежда на Иштар. Только старшие от мужа.
Это признание сразило молодую женщину. Видно, в самом деле выбора у нее не было.
Гугалла отвадила от дома и Даниила, который с той поры, как доставил в дом царского посла принадлежавшие Рахиму рукописи Иеремии, взял за правило навещать хозяйку. Вел себя тихо, попыток навалиться на нее больше не делал — наверное, побаивался Нур-Сина, оказавшегося в фаворе у нового правителя, — но сильно страдал и все корил себя за похотливые желания, которые напрочь отбили те сны, в которых ему являлся Яхве и делился с ним откровениями.