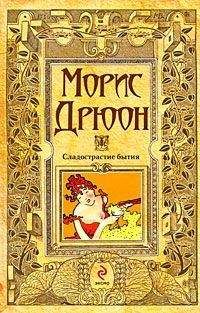Как-то утром он зашел к молодому драматургу в маленькую частную гостиницу на улице Райнуар, где тот квартировал.
– Дорогой Нодэ, – сказал господин де Тантоуэ, – мы с вами мало знакомы, но вам известно, какая давняя дружба связывает меня с Элизой. Эта дружба меня сюда и привела. Интерес, который вы проявляете к ней, ни для кого не секрет, а тот интерес, который она проявляет к вам, увы, и того менее. Вас покорило – а кого бы не покорило? – ее обаяние, тем более ореол успеха, что сияет над ее головой, очень привлекателен для вашей карьеры. Талант тянется к таланту, и ее трогает – а кого бы не тронула? – ваша победная молодость. Вы собираетесь совершить дурное дело. Ведь вы станете ее последней любовью, и то, что для вас будет удовольствием, для нее обернется драмой. Законы возраста еще никому не удавалось обойти. Вы еще пребываете в поре завоеваний, а Элиза входит в пору потерь. Пройдет несколько месяцев, может быть несколько недель, и вы ее оставите, и я, хорошо ее зная, не уверен, что она перенесет этот удар. Если вы хотите повести себя достойно, то должны прекратить эту игру, где ставки слишком неравные.
Анри Нодэ, в домашнем бархатном халате цвета граната, молча попыхивал сигарой, хотя мог бы, конечно, ответить: «Месье, когда я впервые увидел игру Элизы Ламбер, мне было шестнадцать. Я вышел из театра в таком восторге, с таким ощущением произошедшего чуда, какого никогда больше не испытывал. Это Элизе я обязан пробудившимся во мне желанием писать для сцены, это благодаря ей я стал потом знаменит. Тогда я поклялся себе, что когда-нибудь ее завоюю… И вот прошло десять лет, и я вхож в ее гримерную и провожаю ее по вечерам».
Но он ничего не сказал.
– Я вижу по вашим глазам, дорогой Нодэ, – продолжал судовладелец, – что вы сомневаетесь в бескорыстности моей позиции. Однако что бы вы ни думали, но я никогда не питал к нашей дорогой Элизе никаких чувств, кроме чистейшей дружбы. И скорее всего, не смогу питать, потому что послезавтра уезжаю в Америку. Я перевел туда все свои дела и планирую пробыть там долго. Если и вернусь, то очень не скоро, если вообще вернусь. Если бы не это обстоятельство, я никогда не отважился бы на разговор с вами. Я уверен, что вы человек благородный и поймете меня. Поверьте: вы выбрали дурной путь, не ходите по нему дальше.
Анри Нодэ проводил гостя, пожелав ему счастливого пути. Как только дверь за ним закрылась, он пожал плечами: «Я знаком с комедийным персонажем амплуа „благородный отец“, но мне никогда не попадался „благородный друг“…»
Демарш господина де Тантоуэ привел совсем не к тому результату, которого тот ожидал. Вместо того чтобы держаться от Элизы подальше, Нодэ прикинул ее возраст и решил, что если хочет осуществить мечту своей юности, то должен поторопиться. Он убедился, что надо настаивать на своих желаниях, и в тот же вечер понял, что эти желания разделяют. Элиза только того и ждала.
Все случилось так, как должно было случиться, то есть актриса поначалу робко, а потом со всем отчаянием страсти полюбила своего молодого почитателя. И как только она убедила себя, что счастье продлится вечно, Нодэ ее бросил.
Она разом утратила все свое долгое волшебное очарование. Слезы, пролитые летом, смыли с ее лица былую свежесть, и ни грим, ни румяна, ни свет рампы не смогли ее вернуть. Мальчишки-разносчики перестали оборачиваться на нее на улице. В первой же пьесе, сыгранной по осени, она не имела успеха. Почувствовав, что ее светильник угас, она вскоре ушла из театра.
Сразу после разрыва она поклялась больше никогда не видеться с Анри Нодэ. Об этом она ему написала и велела передать на словах. Очень довольный таким запретом, освобождавшим его совесть, Нодэ сделал все, чтобы она свое слово сдержала.
Удивительное дело: если двое любят друг друга, то судьба то и дело переплетает и соединяет их пути, зачастую без всякой причины. Но когда они расстаются, та же сила, что когда-то толкала их друг к другу, начинает их загадочным образом разъединять. Ни разу за двадцать последующих лет Элиза и Нодэ не встретились ни на улице, ни на вернисажах, ни на приемах, ни на похоронах, ни разу не подозвали один и тот же фиакр. И вдруг на банкете в честь одного из старых актеров они оказались рядом. Анри Нодэ сделал именно ту карьеру, которую ему предрекали. Красота его изрядно поблекла, он отяжелел от работы, успеха и бесконечных званых обедов. Усы стали короче, на лбу появились залысины, из гардероба исчезли яркие галстуки. Он стал более многословен, понимая, что в перерывах между блюдами от него ждут какой-нибудь острой шутки или едкого замечания.
Элиза Ламбер превратилась в совершенно седую пожилую даму, сохранившую бесконечное очарование во взгляде и улыбке. Все в ней говорило о том, что когда-то она была прехорошенькой и вовсе не забыла об этом. Она знала, что Нодэ будет рад, и сразу заговорила на тему, которую им давно следовало обсудить.
– Вы заставили меня страдать, Анри, – сказала она, – и долгое время я вас ненавидела. Но теперь все то, в чем моей вины было больше, чем вашей, сгладилось, и в памяти остались только те прекрасные мгновения, которые вы мне подарили. Я со страстью следила за всем, что вы делаете, и радовалась вместе с вами любой вашей удаче… У вас действительно огромный талант.
Одни похвалы, ни единого слова упрека, но и ни единого слова прощения… Голос Элизы звучал для Нодэ старой, давно забытой музыкой, которая вмиг возвращает в прошлое. Теперь Нодэ сам подошел к поре заката, и внезапное воспоминание о молодости его взволновало.
«Мне теперь столько же лет, сколько было ей, когда мы любили друг друга», – подумал он. Слушая голос женщины, которую когда-то жестоко ранил, он проникался к ней огромной нежностью.
– Мне будет приятно видеть вас… время от времени, – сказала она с улыбкой. – Теперь вам больше нечего бояться. И у вас, наверное, есть много о чем мне рассказать…
– Да, мне тоже было бы очень приятно, – ответил он.
– А почему бы вам не прийти ко мне на чашечку чая на будущей неделе?
– С удовольствием. Вы живете все там же?
– Я никуда не переезжала. Давайте в четверг?
– Хорошо, во вторник.
В следующий вторник полил дождь, который затопил весь город, переполнил водостоки и размыл дороги. Анри Нодэ явился мокрый, хоть выжимай.
– Мой бедный друг! – вскричала Элиза Ламбер. – Вы пришли, несмотря на ужасную погоду. И вы не нашли фиакра! Как это мило с вашей стороны, поистине мило… Но ваш пиджак промок насквозь. Вам нельзя оставаться в сырой одежде, вы можете заболеть!
Она хлопнула в ладоши.
– Мариетт, Мариетт! – крикнула она служанку. – Возьми у месье Нодэ пиджак и как следует просуши. А ему принеси мой синий домашний халат. Думаю, он будет впору. Ой, ваши ботинки, мой бедный друг! Мариетт, принеси еще домашние тапочки или меховые грелки для ног. Что найдешь…
Она по-матерински хлопотала вокруг него. Ради него она дала бы себя убить. Ее очень беспокоило, не схватил ли он насморк. Она была так счастлива, что он пришел…
Завернувшись в пушистый халат, Нодэ уселся в уголке у камина, того самого камина, возле которого он сидел двадцать лет назад, забавляясь моноклем и покачивая туфлей.
Едва они завели разговор о прошлом, как раздался звонок в дверь. Мариетт была занята: она сушила утюгом промокший пиджак. Элиза сама пошла открывать.
Голоса вошедшего Нодэ не узнал и услышал только, как Элиза сказала:
– О! Какой сюрприз! Входите, Пьер, и посмотрите, кто у меня сидит. Когда вы приехали?
И вошел господин де Тантоуэ. Накануне вечером он вернулся из Америки, чтобы доживать последние годы жизни на родине, и свой первый визит нанес «дорогой Элизе». Он сделал пару шагов по гостиной, увидел Нодэ в халате, уютно сидевшего у огня с самым что ни на есть интимным и домашним видом, и был потрясен.
Господин де Тантоуэ вскричал:
– Вы? Месье, вы здесь! Сколько же я передумал о том, что натворил! Слава богу, вы тогда меня не послушали. Должен принести вам извинения. Сам же я никогда себе не прощу… Я бы ни за что не осмелился появиться у вас.
Он прошел мимо пожилой дамы, схватился за голову и выбежал, причитая:
– Такая большая любовь! И подумать только, ведь я чуть было не разрушил такую большую любовь!
1955
– Это был четверг, месье!
Старая дама грустно покачала головой:
– Да, четверг…
На Мартинике те, кто пережил катастрофу, никогда не говорили: «Это случилось в тысяча девятьсот втором году» или «Это случилось восьмого мая». Говорили просто: «Это случилось в четверг», словно после этого никакой день уже не имел права называться четвергом.
Мы побывали в Сен-Пьере через тридцать шесть лет после бедствия. Неужели это и есть древняя столица Антильских островов? Неужели на месте маленького прибрежного поселка когда-то был цветущий город с тридцатью тысячами населения, с богатыми домами и торговыми представительствами? Неужели здесь возвышался кафедральный собор, стоял театр, а на низких склонах горы были разбиты многоуровневые парки?