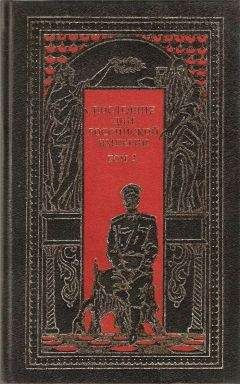Кто, как не эта молодёжь, сочинила коммунистическую марсельезу, где что ни слово, то призыв к убийству и крови? Мечтательность беспочвенного русского интеллигента, с завистью глядящего на сытых и богатых людей, создала её. А упала она на благодарную почву.
Из похабной матерной русской ругани, из непробудного пьянства, из отсутствия уважения к своему прошлому родился русский коммунизм. В нём есть и от артели русской, и от шумной разбойничьей ватаги, где кровь сплелась с поэзией и всё это сдобрено еврейским цинизмом.
Русское «наплевать» помогло развиться ему. Русская лень воспитала его…
«Прав ли я, — думал Саблин, — отказываясь стать в ряды и работать с большевиками? Может быть, целым рядом усилий людей честных удалось бы свергнуть коммунистов с их ужасного пути?
Нет! Невозможно работать в той обстановке, которую они создали. Это пожар на кладбище. Это дом умалишённых. Остаётся одно — умереть». Долгим голодом и мыслями о смерти Саблин подготовил себя ко всему. Как понимал он теперь мучеников! Их мужество тела происходило оттого, что тело умирало раньше, чем наступали муки, и дух торжествовал над ним.
Проходили минуты, а Саблину они казались часами. Мысль беспорядочно металась в голове. Настоящее, будущее было так серо, грязно и безобразно, что смерть казалась лучше. Но прошлое было прекрасно. И Саблин гнал воспоминания и старался не думать о том, чем он жил все свои сорок четыре года.
Вдруг ярко по всей квартире вспыхнуло электричество. В ночной тишине было слышно, как по комнатам проснулись коммунисты и тревожно шептались и шевелились, что-то укладывая и увязывая. Авдотья Марковна в рваном старом капоте простоволосая заглянула в дверь и испуганно сказала:
— Ваше высокое превосходительство. Сейчас обыск будет.
Но Саблин понял, что дело уже не в обыске. Настал его последний час.
На улице стучали машины автомобилей. Саблин подошёл к окну. Из большого грузовика выскакивали солдаты-красноармейцы. Сзади него, освещая его своими фонарями, стоял маленький форд. В нём сидели два человека.
Через несколько минут в кабинет Саблина вошло восемь красноармейцев. Один был гаже другого. Четверо — молодые, лет по восемнадцати, с тупыми безусыми наглыми лицами. Пятый рыжий в веснушках показался знакомым Саблину. Узкие свиные глаза тупо смотрели из-под красных век. Шестой был здоровый мужик с обритым лицом. К его мясистому носу и толстым щекам не шли маленькие остриженные усы. Лицо его выражало звериную радость. Двое остальных были китайцы.
Они всею толпою бросились на Саблина, как будто боялись, что он убежит или окажет сопротивление. Они схватили его, насильно посадили в дубовое кресло и крепко привязали его руки к налокотникам, ноги — к ножкам, а поясницу — к спинке. Саблин потерял всякую возможность шевелиться. Кто-то у дверей распоряжался ими.
— Поставьте у постели! — сказал он. — Поверните немного к окну. Так! Довольно.
Саблина усадили против портрета Веры Константиновны, и он понял, что, кроме мук физических, его ожидают муки нравственные.
— Теперь все уйдите! Вам-пу, приготовь всё, как в Харькове делал. Понимаешь! Ожидать в соседней комнате, — раздавался голос в дверях.
Кабинет опустел. Саблин оставался в нём один. Вера смотрела на него с портрета, и против воли Саблина мучительно-сладкие воспоминания теснились в его мозгу.
Смелыми, короткими шагами вошёл в комнату молодой человек с блестящими серыми глазами. Он был одет в кожаное платье. Два больших револьвера висели у него по бокам на жёлтом поясе, стягивавшем чёрную шведскую куртку.
Саблин узнал в нём Коржикова.
Но не только Коржикова узнал он в молодом человеке — он узнал в нём самого себя. Да. Таким был он в первый год своего офицерства, когда был на вечере у Гриценки. И рост его, и его маленькие породистые руки, и его гордая саблинская осанка, и смелая походка. Так подошёл он тогда к Гриценке и заслонил собою Захара…
Глаза Коржикова неестественно горели.
Он подошёл к письменному столу и оперся на него.
— Папаша! — улыбаясь, сказал он… — Вот вы и мой. А как отстаивали вас в реввоенсовете. Сам Троцкий был за вас.
Было слышно, как на улице шофёры ходили подле автомобилей и переговаривались короткими словами.
— Вы знаете, кто я? — вдруг коротко спросил Коржиков. Саблин молчал.
Коржиков достал из кармана бумажник и вынул две карточки. Он поднёс их к лицу Саблина. Одна была карточка Маруси, другая — Саблина в молодости.
— Это мои папа и мама, — сказал, подмигивая, Коржиков. — И папа — это вы. Чувствуете ко мне отцовскую нежность? А? Гордитесь мною? А? Вы в мои годы были только корнет гвардейского полка и ёрник, а я — комиссар и член чрезвычайки… Карьера, папаша! Не по-вашему начинаю. Вот смотрю на вас — похожи на меня. Я — ваше семя, а у меня к вам ничего, никакого чувства. Что этот стол, что вы, всё одно и то же.
Коржиков закурил папиросу.
— Курить не хотите? — сказал он и, подойдя, всунул свою папиросу в рот Саблину. Саблину страшно хотелось курить, но он её выбросил изо рта.
— Как хотите, — сказал Коржиков. — Воля ваша. Давайте пофилософствуем немного. Есть у человека душа или нет? По-вашему — есть, по-моему — нет. По-вашему — человек от Бога, по-моему — и Бога нет. Человек, что кролик или там что вошь, родился из слизи и ничего в нём нет. Вот вы, поди-ка, мамашу мою любили, а она-то вас бесконечно, и от любви вашей родился я. А я и не знаю вас. Ну так где же душа? Есть у меня приятельница, товарищ Дора. Она в Одесской чрезвычайке все эти дни работала. Она этим вопросом занималась. «Ежели, — говорит, — у человека душа есть, так куда же она девается, когда его убиваешь». И вот так она делала. Сядет на стул, расставив ноги, а сзади неё контрреволюционеров голых поставят. И заставляют, чтобы они под стулом между ног её проползали, и, как покажется голова, она в висок из револьвера и бахнет. И смотрит, что будет. Ничего. Понимаете. Только запах скверный. Человек по тридцать в день она ликвидировала и никакой души не видала. Ну так, значит, и Бога нет…
Вы молчите, — продолжал, затянувшись папиросой, Коржиков. — Не возражаете. Вам, поди, неприятно всё это. Сын родной и все прочее. Память мамаши и такие дела! Да… Хотите, можно иначе все обернуть? Вот здесь, сегодня ночью, составите бумажку, что вы признаете меня своим законным сыном. Да. И именоваться мне впредь Виктором Александровичем Саблиным… А впрочем, зачем Виктором? Я ведь не крещёный. У вас, поди, имена-то родовые. Мне в дедушку надо бы — Николаем Александровичем быть. Да… И сами вы предложение принимаете и вступаете в реввоенсовет и в коммунистическую партию. Брусилов сына в конницу Будённого отдал — и вы меня возьмёте в свою красную кавалерию. Звезду, папаша, пятиконечную на вас налепим, поясок командирский на рукав и — фу-ты, ну-ты — генерал Саблин присягает служить под красным знаменем III интернационала! Карьера, папаша!
Коржиков оглянул портреты предков, висевшие по сторонам портрета Веры Константиновны, и сказал с тою же милою интонацией голоса, как некогда сказала это Маруся:
— Предки ваши!.. То-то, поди, обрадуются. А вы, папаша, того… не бойтесь. Ведь их и нет вовсе. Предков-то! Это все ерунда. Традиции рода! Ни к чему это, папаша! Выдумка одна… А эта? Последняя ваша, распутинская распутница… Я ведь, папаша, дневничок её прочитал, фамильный… Знаете, когда выемку у вас сделали и к нам в чрезвычайку доставили, я заинтересовался. Бумаги генерала Саблина. Как же! Может, это голос крови? Интерес к делу мачехи. Презабавная история. А что же вы-то! Эх вы, герой! Рыцарь! Папаша, вы, право, странный человек. Тогда дедушку моего, Любовина, отдуть как следует за его дерзости не смогли, потом меня Виктору Викторовичу отдали, Распутина так спустили. Как же это так! Она-то, пожалуй, посильнее была? А хороша! Что, папаша, — вкусная она в постельке была? Я таких люблю. Я вообще в вас пошёл. Только куда! Дальше вас. Я все испробовал, все испытал. Ну, положим, теперь при нашем коммунистическом советском строе возможности шире стали. Вы, папаша, пробовали когда-либо семилетнюю невинность? И не пробуйте, не стоит. Разбивали мы тут гнездо контрреволюционеров. Шпионская организация. Понимаете, отец у Деникина в армии, а мать, жена его, здесь — и письма обнаружили. Ну, конечно, к нам. Явился я. Она ничего из себя не представляла — отдал её красноармейцам. А тут девочка бросилась ко мне. Голубоглазая, ресницы длинные, чёрные волосики, как пух. Руки мои целует. «Маму, маму! — кричит. — Спасите маму». Ножки пухленькие, беленькие. Ну я распалился. Понёс на постель… Такой, знаете, испуг, такая мука в глазах, а чувства — никакого. Холод один. Полчаса я над ней мучился. Вырывалась, кусалась, плакала… Коржиков замолчал.