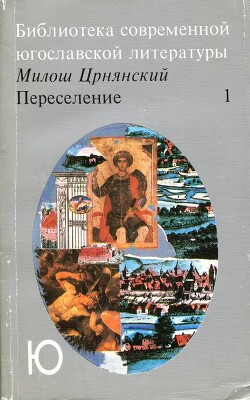Ведь между ним и происходящим вокруг нет, собственно, никакой связи. Через несколько минут он уедет, а такие картины жизни будут повторяться и впредь, хотя от него тут не останется и тени.
И подобно Трифуну, который после отъезда Кумрии из Махалы увидел на стенах среди пыли белые тени от вынесенной мебели, Павел вдруг почувствовал, как он одинок, словно идет один в туче пыли, которая уляжется сразу же после его ухода.
Неизменным оставалось в нем лишь желание уехать, попасть в Россию и поселиться там. А преходящим — горестные чувства его самого и его соплеменников. Да и человеческие чувства вообще.
Какой-то вертевшийся возле лавок на площади торговец, заметив одиноко сидящего в экипаже офицера, подошел к нему и предложил купить сукно. Нигде, дескать, такого сукна не сыщешь. Он предложил капитану выйти из экипажа и посмотреть на его товар.
Исакович не ответил. Торговец удивленно посмотрел на него и спросил:
— Откуда едете, ваше благородие? Почему не хотите ничего купить?
А когда Павел Исакович ничего не ответил и на этот вопрос, торговец лишь покачал головой и удалился с таким видом, будто встретился с безумцем, а к тому же еще и немым.
Наконец появились Божич, Евдокия и Текла, они стали подтрунивать над Павлом, удивляясь, что он поднялся ни свет ни заря. Пришли и хозяева, и началось церемонное прощание. Павел слышал, как Евдокия сказала, что надеется отблагодарить хозяйку за гостеприимство, когда та приедет в Вену. Текла, оставшись на минуту наедине с Исаковичем, улыбаясь, сказала:
— Эта противная особа испортила чудную ночь, ведь мы могли бы провести ее, гуляя в саду. Я трижды спускалась вниз, и каждый раз, будто случайно, за мной спускалась хозяйка, чтобы и для меня сделать невозможным то, что невозможно для них, старух.
Потом под крики конюхов экипаж тронулся с места.
Без всякой проверки на карантинной заставе они выехали из Рааба и помчались по пути в Айзенштадт и Визельбург. Кони отдохнули, форейтор был новый, местный словенец, отлично знавший дорогу, знавший, где надо будет переезжать через ручьи и непросыхающие лужи, а где встретится деревянный мост.
Если он, случалось, терял дорогу, то останавливал на минуту лошадей, и Павел слышал, как, сидя верхом, форейтор сокрушался:
«А, черт побери! Перекресток!» — И тотчас же ехал дальше.
Часа через два почва стала сухой и песчаной, они покатили быстрее. И к обеду были уже далеко от Рааба.
А вскоре вдали показались пригорки.
Тракт, который вел в Визельбург, в сущности был не настоящим трактом, как, впрочем, и многие другие дороги в том краю, а высохшим руслом реки, утрамбованным бесчисленными копытами лошадей. Экипаж легко катил по глинистому грунту. После обеда, когда выехали на необъятные зеленые пастбища перед Визельбургом, они помчались еще скорее. В долине справа, между рукавами Дуная, ширились безбрежные плавни, а слева высились поросшие тополями холмы.
Во время этой бешеной скачки Павлу запомнились лишь какие-то трактиры, журавли колодцев да деревянное распятие на поросшей маками поляне, где они отдыхали и обедали.
Невыспавшиеся, усталые и занятые своими мыслями, путники во время еды молчали.
Потом четверик опять помчался, словно за ним гнались черти.
Божич снова спросил, почему бы капитану, когда они приедут в Вену, не остановиться в его доме? И засыпал его вопросами о Трандафиле, о том, как Исаковичу спалось в Раабе, и снились ли ему там приятные сны?
После захода солнца небо покрылось тучами, похолодало. Экипаж углубился в заросли кустарника и камышей. Когда они проезжали через селения, мимо домов, крытых кукурузной соломой, вдоль дороги все чаще стали попадаться высокие белобрысые люди в синих куртках. Беседа в экипаже оживилась. Божич объяснил Исаковичу, что это — новые поселенцы Марии Терезии, немцы с Рейна — Heidebauern [37]: Монтенуово считает, что отсюда необходимо выселить славянское население {37}.
Потом он в шутку пригрозил, что вечером выиграет у Павла в фараон все деньги до последнего талера. Исакович заметил, что это ему не угрожает, так как в карты он никогда не проигрывает.
Павел проигрывал на Беге, в барке, умышленно, желая привести в хорошее настроение и усыпить бдительность кирасира, который вез его в тюрьму. Ракосавлевич и Трандафил снабдили его деньгами и векселем, который должен был оплатить его родственник, венский банкир Копша. Павел показывал свои талеры Божичу, надеясь расположить майора к себе. А у того при виде денег глаза загорались, как у лисы.
Когда они останавливались в какой-нибудь роще, Божич выходил из экипажа помочиться и громко приглашал Исаковича составить ему компанию. А когда Павел краснел от стыда, майор кричал, что естественные потребности следует удовлетворять. Так утверждают французские философы.
— Угадать возраст женщины, — распространялся Божич, — трудно, а возраст лошади — легко. В четыре года лошадь теряет молочные зубы. Когда ей минет шесть, то на зубах появляются ямки, которые совершенно исчезают на восьмом году. В девять все зубы у нее — ровные и гладкие. Определить, что ей десять лет, можно по деснам. А после одиннадцати узнать возраст лошади уже трудно. Как и возраст женщины после тридцати.
Божич, подобно Павлу, считал, что ждать проявления патриотизма от женщин не приходится. Их симпатии — на стороне народа, к которому принадлежат их мужья. Как и Павел Исакович, майор сомневался в том, что Муцулы, Маленицы, Монастерлии постараются сберечь славу князя Лазара и приумножить ее новыми подвигами.
И хотя Божич называл себя схизматиком, он, однако, не возражал, чтобы по желанию г-жи Монтенуово его дочь отправили учиться хорошим манерам и каллиграфии в католический монастырь. В том монастыре, как уверяла г-жа Монтенуово, во время ночной мессы Христос берет монахинь на свои прободенные ребра и ласкает. Текле хотелось на это поглядеть.
— Во всем виновата эта сумасшедшая Ракич из Вуковара, родственница жены, простая, хотя и богатая баба. Она сделала Теклу своей наследницей, но требует, чтобы дочка воспитывалась, как девицы Монастерлии. А знаете, — продолжал майор, — есть способ точно определить возраст женщины. Но сейчас сказать об этом я не могу, Текла затыкает мне рот перчаткой. Скажу, когда останемся наедине.
По мнению Божича, им, офицерам, которые принесли в Срем руку царя Лазара {38}, приходит конец. Сейчас наступает царство сербских коммерсантов, даже в Вене. С ними он, конечно, не имеет ничего общего. Однако все сербские офицеры, считал Божич, должны отказаться от мысли переселиться в Россию, они должны жить в Австрии и оставаться верными этой просвещенной империи, которая дала им убежище.
Это относится ко всем сербам. Таково его убеждение! «Ну, а как думает капитан?» — спрашивал Божич Павла…
Когда экипаж останавливался в каком-нибудь перелеске, Божич брал дочь под руку и вел, будто невесту, прогуляться. А на жену не обращал никакого внимания, всецело оставляя ее на попечении Павла. При этом отец и дочь то и дело хохотали и подшучивали над Исаковичем, а возвратившись, брали его за руки и начинали приплясывать, словно поводыри с медведем. Исакович вскоре понял, что Божич гораздо образованнее и начитаннее его, таких людей в ту пору среди сербов можно было перечесть по пальцам, ими восхищался и сам Павел. Поэтому он становился все сдержанней и молчаливее и все чаще хмурился.
Приснившийся Павлу сон и тот безумный смех, от которого он проснулся, угнетали его, ему казалось, что существует какой-то потусторонний мир, куда людям нет доступа, и только сны порою возвращают туда человека. Поэтому Павлу хотелось, чтобы его оставили в покое, наедине с самим собой, с его грустными воспоминаниями и не тревожили, то и дело спрашивая, почему он не женится.
Оставаясь вдвоем с Павлом, г-жа Божич брала его под руку, чтобы пройтись. Исакович ощущал, как покачиваются на ходу ее теплые, словно голуби, груди. Она о многом расспрашивала его, но он увиливал от ответов. Однако все их разговоры заканчивались неизменным вопросом: