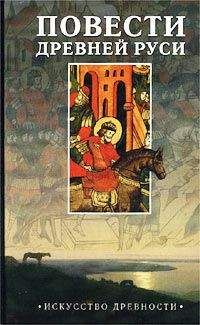Ознакомительная версия.
— Да не бесы мы! — прокричал Корыто, когда чернец втолкнул обоих в темноту амбара.
— Чего это они? — удивился ключник.
— Жестокое искушение приняли от бесов, — ответил Григорий. — Брат Анастас, ты иди себе, а я еще потолкую с ними. Ключ только оставь.
— А… — попытался возразить эконом.
— Так игумен велел.
Эконом снял с большого кольца ключ, зашел в амбар и запалил от своей лампады масляный светец на стенке. Показал, где стоят жернова и лежат мешки для муки. После похромал обратно в келью. Григорий ткнул пальцем в сусеки, полные зерна:
— Пока все не смелете, не отпущу вас. Вам, бесам, тут работы эдак до утра, думаю. А день я вам про запас прибавил, чтоб наверняка не оплошали.
— Ну сколько тебе говорить, не бесы мы, — безнадежно провыл Топляк, сжимая кулаки.
Григорий задом попятился к двери, выпрыгнул наружу и захлопнул дверь. Повозил ключом в замке.
— А если не бесы, так я схожу в Берестовое за княжьими кметями.
— Не нужно кметей, бесы мы! — заорал Топляк. — Не видно, что ли!
— Ладно, — согласился чернец. — Я утром приду, проверю.
Он ушел. Попавшие в ловушку тати, погоревав и опробовав на крепость дверь, улеглись спать.
На рассвете первым разлепил очи Корыто. Спросонья тать решил, что в монастырь приехали княжьи дружинники: на дворе громко колотили железом о железо. Он подполз к Топляку и растряс его.
— Чего это, а? За нами?
— Сдурел? — проворчал тот, перекладываясь на другой бок. — Это побудка у чернецов.
Корыто успокоился.
— Вставай, Топляк! Надо жито молоть. Скоро этот придет, который нас повязал.
— Опять сдурел? Я не холоп, чтоб работать.
— Ага, если не смелем им зерно, нас дружинникам выдадут, — проныл Корыто.
— Ну и мели.
Григорий, заглянув в амбар после заутрени, узрел треть мешка готовой муки. Обсыпанный ею с ног до головы тать усердно крутил рукоять жернова и подсыпал зерно. Другой спал, навернув на голову грязную, дырявую рубаху. При появлении чернеца он проснулся, прозевался и спросил:
— Жрать когда дашь?
— Духи злобы не едят и не пьют, — разъяснил Григорий.
Топляк поднялся и угрожающе пошел на чернеца.
— А вот так они делают?
Он пнул монаха ногой в живот, оттолкнул и выбежал из амбара. Григорий, согнувшись пополам, смотрел на второго. Корыто бросил жернов, тоже вскочил.
— Почему не бежишь за ним? — выдавил чернец.
— А заклятье свое не пустишь на меня? — настороженно спросил тать.
— Не пущу. — Григорий отдышался, распрямился. — Какие вы бесы. Тати и душегубы. Бесы у вас на шее сидят и в ухи шепчут. А игумен Феодосий вас бесами назвал, чтоб я не возгордился, что Господь по моему слову совершил чудо.
Корыто продвинулся к выходу.
— Это все Топляк, — сказал он, облизнув губы, облепленные коростой. — Он меня на дело подбил. А потом жило перепутал. Мы грабить не хотели. Только ножиком чик и все.
Он сделал еще шаг.
— Пошто? — изумился Григорий.
— Велено было и уплочено. Только не тебя, а этого… Федосия.
Тать добрался до ободверины.
— Пошто? — сильнее недоумевал чернец.
— А я откель знаю? Я того, кто велел, не видел. С ним Топляк обговаривал дело.
Корыто встал на выходе.
— А! — вспомнил он. — Топляк его гречином назвал. Ну бывай, чернец.
Он хлопнул дверью и убежал.
Григорий медленно приходил в себя от услышанного. Бывало, конечно, и много раз, злобились на игумена Феодосия и князья, и епископы, и бояре. Искушали в словопрениях, грозились изгнанием, ругали почем зря, срамили и подвергали глумам. А одолеть не могли и отскакивали от блаженного старца, облеченного в броню веры, как острое железо от твердого камня.
Но вот так — подсылать кромешников-убийц… Григорий размазал по щеке невольную слезу и решительно направился искать игумена.
— Пустое это, чадо, — сказал Феодосий, выслушав. — Прежде смерти никто не умрет, а она от Бога.
Григорий только руками развел.
Старец, твердо втыкая игуменский посох в землю, зашагал к своей келье. Внутри еще горел свет. За низким столом на короткой и узкой лавке сидел Никон. Всю ночь писал, а теперь сложил руки на листе пергамена, на руки уронил голову и спал.
Феодосий прижал пальцами огонек свечи, убрал со стола бронзовую чернильницу византийской работы с фигурками святых по бокам. С улыбкой положил руку на плечо книжнику.
— Просыпайся, отче Никон! Новый день настал.
Монах поднял голову.
— Послушай, какой помысел послал Господь мне на ум, отче Феодосий, — бодро сказал он, будто и не спал. — Ведомо тебе, что, бывши в Тьмутаракани, вел я записи о случавшихся там делах. Ты сам видел те записи, что я привез с собой. Теперь хочу составить полное повествование о земле Русской, по летам расписанное, сиречь летописец. Оный труд послужит и к просвещению Руси, и к величию ее во имя Господне.
— Это что же, греческий хронограф на русский лад? — улыбался игумен.
— Лучше. Ты, Феодосий, знаешь, что не люблю я греческих обычаев и ничего из них не возьму. Хотя и у греков есть хорошее, но Господь меня иному надоумил. Благослови, отче игумен, на великий труд!
Книжник опустился на колени и преклонил голову. Феодосий возложил на него ладонь и перекрестил.
— А заутреню все же не пропускай, отче Никон, прошу тебя.
В год 6580-й от Сотворения мира трое князей Ярославичей торжественно и прилюдно примирились меж собой. Клятвенно обещались дружить и миловать друг друга, а ссоры и свары решать полюбовно. Кто ж знал, что не пройдет и года, как они смертельно разругаются.
Жить в любви и не перебегать друг другу путь наказал сыновьям перед смертью отец. Старый князь хорошо знал, о чем говорил. Великий каган Ярослав на своей шкуре испытал, каково без любви делить с братьями княжение на Руси. Но тогда он еще не был ни великим, ни каганом. Сидел в Новгороде и боялся, что отец пойдет на него из Киева войной за отказ платить новгородскую дань.
Князь Владимир, однако, вдруг помер. Старшим его сыном считался приемыш Святополк, а любимым был Борис. Святополк оказался тогда ближе к великому столу. Ему и пришло в дурную голову: «Перебью всех братьев и один завладею Русью». Киевским людям принялся раздавать подарки, к Борису же послал вышгородских бояр, чтобы убили его. Из дружины при Борисе оставалось несколько отроков. Остальные ушли, когда князь объявил им: «Не хочу поднимать руку на старшего брата, пускай он отныне будет мне вместо отца». Таких заявлений испокон веку на Руси не делали, и кмети Бориса не поняли. Потому подосланные бояре с делом худо-бедно справились. Князь и сам не противился им. Молился со слезами: «Сподобь, Господи, принять страдание во имя Твое и ради любви к Тебе и не вмени брату во грех. Если кровь свою пролью, буду мученик Тебе».
Довольный его смертью Святополк вошел во вкус. Обманом вызвал из Мурома младшего, еще безусого Глеба. Но доплыть до стольного града не дал ему. Такие дела лучше проворачивать подальше и потише. К Глебу отправилась шайка убийц. Его лодью обнаружили под Смоленском. Князя накануне ошеломила весть от Ярослава, что Борис мертв, а Святополк — гнусный предатель и братоубийца. Борис был для Глеба любимым братом, образцом подражания, и мысли о противлении также не возникло. «Увы мне, Господи, — взмолился князь, — лучше бы мне умереть вместе с братом, чем жить на этом свете, полном лжи». Посланцы от Святополка захватили лодью и собрались уже прирезать Глеба. Князь объяснил им суть дела: «Закалаете меня, как агнца, перед Господом». Но зарезал его свой же холоп-повар, одуревший со страху при виде злой своры.
Три года после того Ярослав воевал со Святополком и его польским тестем — толстобрюхим Болеславом. Удача то улыбалась ему, то махала рукой на прощанье и снова подмигивала. Вконец разъярившись и ошалев, Святополк навел на Русь печенегов. Ярослав разбил поганых. Князь-братоубийца бежал и бегал еще недолгое время, обезумевши от страха, пока не помер.
Святополка на Руси прозвали Окаянным. Поговаривали, что могила его, где-то между ляхами и чехами, ужасно смердит.
Изяслав Ярославич ни в чем не хотел уступать отцу, который прославил Бориса и Глеба в лике святых. К последнему месяцу весны в Вышгород съехалось великое множество народу. Собрались князья с женами, чадами и домочадцами, митрополит, епископы и монастырские игумены, прочего духовенства без числа, бояре с дружинной чадью, гриди и отроки с княжьих дворов. Небольшой град вместить всех не мог. За городьбой в чистом поле стояли шатры княжих мужей, скучали без дела младшие отроки, которых не звали в город, щипали свежую траву дружинные кони. Там же, завернувшись в вотолы, ночевали черноризцы, пришедшие сами по себе, а не в епископской свите.
Князь Изяслав устроил для всех праздник и хотел, чтобы торжества запомнились надолго. Перед тем как положить святые мощи Бориса и Глеба в новую, тут же освященную церковь, пировали три дня. Со всех сторон в Вышгород ехали возы с обильем: везли туши дикого зверья и скотины, живую рыбу в бочках, огромные, по грудь человеку, корчаги с вином, мед, пиво и брагу, мешки муки для пирогов, горы грецкой овощи и своих запасов с прошлого году, сарацинские сласти в кожаных торбах. Столы ставили не только во дворах, но и прямо на мостовых. По граду ездили конные с тугими кошелями, щедро загребали горсти резаного серебра, бросали сбегавшейся черни. Из порубов по случаю праздника выпустили всех сидельцев, кроме виновных в тяжком душегубстве.
Ознакомительная версия.