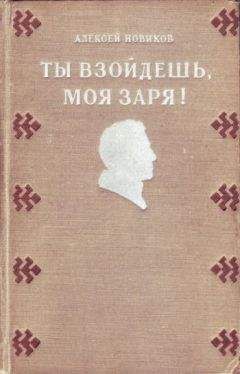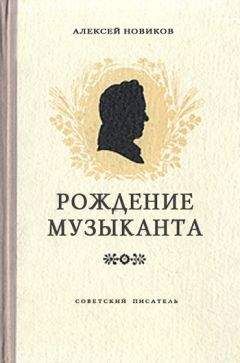Ознакомительная версия.
Планы романа о пугачевцах множились и менялись. Пушкин не мог проиграть эту битву. А жизнь лишала поэта последнего сердечного спокойствия. Оскорбительное пожалование в камер-юнкеры высочайшего двора влекло за собой тяжкую повинность присутствовать на дворцовых церемониях. Пушкин манкировал и получал грубые нагоняи. По придворному званию мужа, Наталья Николаевна получила доступ на придворные балы. Ей оказывал милостивое внимание император.
Еще в начале года мать Пушкина с гордостью писала о невестке: «На бале у Бобринских император танцевал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее».
В тот же день Пушкин отметил в дневнике светскую новость, повидимому не имевшую никакого отношения к нему лично: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет».
Так начался этот год. Николай Павлович оказывал особо милостивое внимание Наталье Пушкиной. А на балах с ней стал часто танцевать бывший французский шуан, ныне офицер русской гвардии, красавец Жорж д'Антес.
Наталья Николаевна веселилась. La belle Natalie все больше входила в моду. Великосветские политики были убеждены, что в Петербурге гораздо больше говорят о Пушкиной, чем о самом поэте.
Царь продолжал заигрывать с Натальей Николаевной. «Не кокетничай с царем», – просил ее Пушкин. Наталья Николаевна ничего не понимала. Право же, она гораздо охотнее танцует с бароном д'Антесом. С ним куда веселее!
Еще летом Пушкин сделал решительную попытку охранить жену от оказываемых ей царских милостей.
«Поскольку дела семейные, – писал он Бенкендорфу, – требуют моего присутствия частью в Москве, частью во внутренних губерниях, вижу себя вынужденным оставить службу…»
Граф Бенкендорф с удовольствием доложил эту просьбу императору. Втайне шеф жандармов решительно не одобрял внимания царя к жене этого сомнительного камер-юнкера. Граф Бенкендорф больше чем когда-нибудь предпочитал направить чувства монарха по надежным, проверенным каналам.
Но царь прочитал письмо поэта и недовольно нахмурился.
– В случае отставки, – сказал Николай, – ему навсегда будут закрыты все архивы… Пусть выбирает.
Грозный тон, которым говорил царь, не оставлял никаких сомнений в том, как надо ответить Пушкину. Сам шеф жандармов оказался бессильным что-нибудь изменить в увлечении его величества.
И надо было видеть, как встревожился дерзостью Пушкина Василий Андреевич Жуковский. Он даже потерял обычное спокойствие, рисуя поэту гибельные последствия возможной отставки.
Придворные покровительницы Натальи Николаевны в свою очередь не находили слов, чтобы заклеймить чудовищный деспотизм ее мужа. Лишить Петербург прелестной Натали? Кто же будет украшать балы?
– Уехать в деревню? – ужасалась Наталья Николаевна.
В ее прекрасных глазах стояли слезы. Она хорошо помнила свою девичью московскую жизнь: тоскливые годы, проведенные в молельной со взбалмошной матерью, истошные вопли душевнобольного отца… Неужто снова заживо похоронить себя в деревне?
Наталья Николаевна плакала. Она плакала каждый раз, когда заходила об этом речь.
И все осталось по-старому.
Начался бальный сезон. Император был попрежнему к ней милостив. Она еще охотнее танцевала с Жоржем д'Антесом, таким ослепительным в мундире кавалергарда.
Заехав к Одоевскому, Глинка увидел Пушкина, который сочувственно внимал речам Владимира Федоровича.
– Этакая удача! – воскликнул Одоевский, встречая Глинку. – Александр Сергеевич только что интересовался твоими делами.
– И рад повторить, – перебил Пушкин, – что счастливый сюжет избрали вы для оперы. К стыду нашему, до сих пор не отдали мы дани ни Владимиру, ни Дмитрию Донскому, ни Ермаку. Иван Сусанин не менее достоин памяти потомства. От души поздравляю.
– Надобно слышать музыку Михаила Ивановича, – вмешался Одоевский, – чтобы понять, какое событие нас ожидает. Теперь все дело за Жуковским, который взялся писать поэму…
Пушкин искоса взглянул на Глинку.
– Не вижу, однако, чтобы вы являли собой счастливого артиста, изласканного вниманием Василия Андреевича. Или он вам не угодил?
Глинка объяснил свое смущение. Судя по эпилогу, Жуковский решительно удаляется от идеи и характера музыки, которая посвящена изображению народа. А Василий Андреевич славословит царей.
– Стало быть, акафисты слагает лукавый царедворец? – Пушкин улыбнулся. – И, вдохновленный древностью, метит в современность? – Поэт стал серьезен. – Замышляя народную драму, вам нужно быть готову ко многим огорчениям. Истина страстей в правдоподобных обстоятельствах – вот закон для драматического писателя…
– И не менее того для музыканта, Александр Сергеевич, – согласился Глинка.
– Не буду спорить. Но кто, чудотворец, сумеет дать правдивую картину народной жизни и увидит свой труд в печати? Нужны многие жертвы, чтобы противостоять хору, действующему в словесности по высочайшему указу его величества… Впрочем, вам, музыкантам, дано счастливое право живописать звуками, к которым глуха всеведущая цензура. Однако любопытно было бы мне знать, – продолжал, оживясь, Пушкин, – как обрисуется в музыке костромской мужик Иван Сусанин после тех оперных пейзан, которых представил нам господин Кавос?
– Вот и покажем Александру Сергеевичу твое создание. – Одоевский встал, готовясь идти к роялю. – Когда еще будет такой счастливый случай?
– Помилуй, Владимир Федорович! – ужаснулся Глинка. – Еще ничего готового нет и слова отсутствуют. Но если вам будет угодно, Александр Сергеевич, я почту за честь представить вам мой опыт, как только определится существенное.
– Буду ждать с нетерпением, – откликнулся Пушкин, – тем более что помню наш давний разговор. Стало быть, пришло время заговорить музыкантам русским языкам?
– Как бы ни были слабы мои опыты, время давно приспело, – подтвердил Глинка. – Но если вам, Александр Сергеевич, памятен наш давний разговор, то и я позволю себе напомнить, что возник тот разговор в связи с замыслом вашей трагедии о Моцарте и Сальери.
– Очень хорошо помню, – отвечал Пушкин. – Но тогда трагедия только дразнила мое воображение, а ныне она отходит в прошлое.
– Для кого как, Александр Сергеевич! Начертанные вами характеры обращены не только в прошлое. Еще не раз ученые педанты, числящие себя по департаменту музыки, будут повторять в похвальбу себе слова вашего Сальери:
Отверг я рано праздные забавы:
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке…
Пушкин хотел что-то сказать. Но Глинка в увлечении продолжал:
– В вашей трагедии, Александр Сергеевич, Сальери сам раскрывает печальную участь, которая ждет артиста, отрекшегося от жизни. – И Глинка снова прочел из трагедии:
Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп.
– Надеюсь, однако, – с улыбкой сказал Пушкин, – что здесь еще нет оснований для будущего умерщвления Моцарта?
– Но есть все основания для духовного самоубийства Сальери, – отвечал Глинка. – Нет более печальной эпитафии для артиста, чем собственные слова вашего Сальери:
…Поверил
Я алгеброй гармонию…
– Так вот как судит о музыканте музыкант? – откликнулся Пушкин.
– Судит и сурово осуждает! Но вместе с вами, Александр Сергеевич, – подтвердил Глинка. – Жизнь и только жизнь может питать вдохновение… Разве не в том заключается смысл вашей трагедии о Моцарте и Сальери?
– Если бы критики пришли к подобным выводам, я бы первый к ним присоединился. И тем более, – продолжал Пушкин, – что жизнь учит нас этому на каждом шагу. Если вы задумали оперу и хотите выразить в ней идею русской жизни, русские характеры, как вам подсказывает ваша мысль…
– Но отнюдь не приверженность к музыкальной алгебре, – перебил Глинка. – Надобно ли уточнять?
– Не забудьте, однако, что до искусства охочи не только современные Сальери, но и достойные потомки Маккиавелли.
– И прочий хор, действующий по именному повелению его величества? – добавил Глинка.
– Ну вот, мы опять поняли друг друга, – рассмеялся Пушкин. – Ждем мнения вашего сиятельства, – обратился он к Одоевскому.
– Да мне уже привелось однажды изрядно погорячиться в споре с Жуковским. Представьте себе, Александр Сергеевич, в оправдание своих славословий царю он ссылается на «Думу» Рылеева, в которой Сусанин так же говорит у него о Михаиле Романове.
– Престранно было бы и отрицать исторический факт, – сказал Пушкин. – Но, зная жизнь, убеждения и гибель несчастного Рылеева, не будем пятнать его память. Рылеев и его товарищи видели в избрании на царство Михаила Романова прежде всего волю и власть Земского собора, то есть идею народоправства. Но хотел бы я знать, как мог открыто сказать об этом Рылеев? Однако читайте исполненную достоинства речь Сусанина, вдумайтесь в его мысли о родине, о служении народу и родной земле, и тогда будут ясны мысли Кондратия Рылеева. Но теперь настали другие времена. Думается мне, что Кукольник в своей драме «Рука всевышнего» наилучше потрафил спросу. – Пушкин вскочил с места. – Мочи нет, как хорош у Кукольника монолог князя Пожарского. – Поэт поднял руку, подражая трагическому актеру:
Ознакомительная версия.