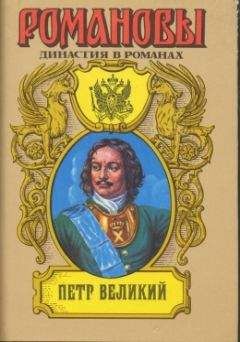Поздними вечерами, оставаясь с глазу на глаз с Петром, денщик шепотком выкладывал обо всём, что слышал за день.
– Поглядеть, государь, со сторонки, – морщился он, как морщатся с похмелья при виде вина, – и ближние твои словно бы довольны всем, а поприслушаешься – иное выходит: не от чистого сердца, преславный мой, споручествуют они тебе, но страха ради трудятся над делом твоим.
Государь пощипывал усики и нервно бегал по терему.
– Всяк человек есть ложь, Алексаша. Памятуй сие слово Давидово и не верь никому. Во все очи гляди за боярами. – И, останавливаясь неожиданно, пронизывал денщика долгим испытующим взглядом. – Всяк человек есть ложь.
Пётр почти перестал пить. Раз увлёкшись судостроением, он целиком, со всей свойственной ему страстностью отдался этому делу. Никакие мысли, кроме забот о судостроении, не занимали его. На сидениях ли, на пирушках, в минуты ли мирных бесед с друзьями он неизменно переводил на одно:
– Прежде всего корабли. Обзаведёмся мы флотом, а там такую кашу заварим!..
В праздники, после обедни, царь отправлялся к Лефорту Его сопровождали единомышленники и споручники – Стрешнев, Меншиков, Шафиров, окольничий – Михайло Собакин, Александр Протасьев[168], Тимофей Чеглоков, князья – Хотетовский[169], Волконский, Жировые-Засекины и иноземцы. В зале гости рассаживались вдоль стен на лавках, обитых горностаем и объярью. На столах громоздились батареи бутылок, пугая иноземцев пуще самых жестоких орудий пытки. Слишком хорошо были знакомы они с «хлебосольством» царя и не раз уже после пира, отравленные вином, долгими неделями отлёживались в постели.
Пётр примащивался на подоконнике и, словно дьяк в застенке, с жестокою холодностью приступал к расспросам, касающимся корабельных работ.
Думные дьяки – Прокофий Возницын[170], Михайло Прокофьев[171], Гаврила Деревнин и Автоном Иванов[172], согнувшись, усердно скрипели перьями, записывали подробно и вопросы царя, и ответы ближних.
Каждую неделю записи эти обсуждались на сидении. Так понемногу составлялся подробный перечень всего, что необходимо было для похода против турок, наметились дороги, по которым следовало пойти войскам, число полков и офицеров, а вместе с этим определились и военачальники.
Посещение сидений в хоромах Лефорта стало непреложным законом для всех приближённых Петра. Каждый имел право высказываться там со всей откровенностью, не страшась наказанья, спорить с царём и резко осуждать его предложения.
С глубоким вниманием выслушав всех, царь принимал у дьяков записи, прятал их за пазуху и только тогда уже, на радость всем, добродушно подмигивал Иоаникиту.
Сонная одурь на лице князь-папы мгновенно сменялась великою радостью. Дрожащей от нетерпения рукой он наливал огромный кубок перцовки и благословлял им «паству».
Начинался пир.
Выпив немного вина и закусив, Пётр с презреньем отодвигал от себя сладкое, набивал карманы солёными лимонами, огурцами и вставал из-за стола.
Все тотчас же вскакивали за государем. Лефорт обиженно поджимал пухлые губы.
– А я биль надешд, ты будет с нам, моя суврен.
Пётр похлопывал швейцарца по животу.
– Долгое чинное сидение за столом придумано, Франц Яковлевич, в наказанье большим господарям, а я уж какой господарь! – И, переворачивая руки ладонями вверх, хвастливо показывал сплошную кору мозолей. – Нешто у высокородных такие бывают длани?
Он уходил, но просил всех «не обижать» хозяина и продолжать веселье без него.
– В толк не возьму, что с государем содеялось, – всхлипывал пьяный Иоаникит. – Во образе капитана так и кипит, так и исходит прилежаньем великим. А как с соборянами встретится, так чужой совсем. Впору хоть анафеме предать школу капитана Петра Алексеева, а самого соборянина державного отлучить от всех кабаков.
Меншиков подносил всешутейшему чару вина. Князь-папа всовывал два пальца в рот и, освободив место в желудке, добросовестно осушал чару.
– На доброе здоровье, – кланялся Алексаша и в свою очередь присасывался к бокалу.
Из Воронежа прискакал гонец с вестью, что большая часть кораблей готова к спуску.
Пётр не верил своим ушам. Он заставил приехавшего стольника трижды повторить донесение и поклясться перед образом, что говорит правду.
Стольник не на шутку перетрусил. Ему почудилось, что государь смеётся над ним, узнав что-то новое, сводящее на нет его сообщение.
– Что после отбытия моего из Воронежа приключилось, того не ведаю, а как уезжал, сам ещё единожды корабли обошёл, собственными очами их видел.
Царь истово перекрестился.
– Так вправду?
– Как нынче вторник, мой государь, – повторил торжественно стольник и вдруг взревел благим матом, стиснутый в порывистом объятии Петра.
Мечты государя начали понемногу сбываться. То, чем он жил в последнее время и во что боялся верить, претворялось в действительность, на Руси появилась новая сила, невиданная небывалая – речная флотилия. Это вскружило голову государю, придало ему гордости и уверенности. Преисполненный счастья, он объявил по всей стране трёхдневный праздник и так жестоко напился, что больше недели не мог подняться с постели.
Но, едва оправившись, в первую очередь побежал на Преображенскую верфь.
Глава 10
ПОКЛОН ОТ ВАРНИЧНЫХ ЛЮДИШЕК
– О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих и о спасении их Господу помолимся, – густыми тягучими сумерками полз по низеньким сводам Преображенской церкви дьяконский возглас.
Пётр стремительно опустился на колени, ткнул строго тремя перстами в лоб, грудь и плечи и, полный мольбы, чуть вздрагивающим баритоном не пропел вместе с ликом[173], а прокричал, точно в мучительной боли, трижды повторяя каждое слово:
– Господи! Господи! Го-спо-ди! Помилуй! Помил… уй! Пом…мил..луй!..
Всю обедню он не поднимался с колен, колотился лбом о заплёванные плиты пола, пропускал мимо ушей все молитвы и твердил, переживал только одну, страстную, шедшую из самых дальних глубин души:
– …Плавающих, путешествующих, пленённых спаси, Господи, спаси, Спасе мой, спаси, Спасе мой, и помилуй!
Из церкви, вытирая украдкою слёзы, царь вопреки установившемуся обычаю отправился не к Лефорту, а к себе в усадьбу.
– Ну вот Дунюшка, добились мы своего, – сказал он с оттенком сердечности, входя в светлицу жены.
Евдокия Фёдоровна, поражённая приходом мужа, не бывшего у неё уже более полугода, ошалело вскочила с лавки и бухнулась ему в ноги.
– Добились, царь мой, так ввознесём за сие благодарение Господу, – вздохнула она с глубоким чувством, хоть и не имела никакого понятия о том, чего добился царь.
Пётр поморщился:
– Встань, чего в ногах валяться!
А про себя выругался:
«Благодарение Господу… Начётчица толстозадая! Одно и знает, что акафисты читать да лбом обземь колотиться…»
Торопливо, сколько позволяло тучное тело, поднявшись царица попятилась к кровати.
– Коли воля твоя, я и постоять могу. – шмыркнула она носом и, виновато потупившись, ткнулась подбородком в ладонь.
Государь примостился на краю постели и исподлобья взглянул на жену, на её сутулую, едва колеблющуюся спину. Ему показалось, что она плачет.
– Ты не серчай. Слышь, Дунюшка. Я и рад бы подобру с тобой, да все насупротив моей воли выходит… Подь-ка ко мне, Дунюшка… Подь…
Евдокия Фёдоровна не слышала. Тяжёлый взгляд её застыл на укутанной в соболь кукле. Сухие губы что-то шептали тревожное, кручинное и вместе с тем бесконечно нежное, ласковое.
Неслышно поднявшись, государь шагнул к жене и обнял её.
– Об чём? Садись, я тебя радостью доброй порадую, порасскажу, как вечор мы остатнее судно на воду спускали.
Для царицы радость Петра была безразлична, она не догадалась даже внешне показать, что разделяет её, и, как бы отвечая своим мечтам, протянула:
– Себе на потехи строишь тьму тем кораблей, а единый бы разок смилостивился, царевича потешил бы, эдакой хоть махонькой кораблик ему смастерил.
Тупость царицы покоробила царя, отшибла всякую охоту к примирению. Ногти пальцев, указательного и мизинца, вздрагивающе заскреблись о пуговицы кафтана. Не вымолвив ни слова, он выскочил в сени.
Царица ничего не понимала. Заметив высунувшуюся из двери соседнего терема постельницу, она поманила её к себе.
– С чего он озлился?
Постельница неопределённо пожала плечами и ничего не ответила.
Полный бешеного гнева, царь набросился на ни в чём не повинного дозорного преображенца.
– Так-то, сука, службу несёшь? Спишь на дозоре!
Солдат стоял истуканом и пялил на государя выкатившиеся от ужаса глаза.
– Сука! Дармоед! Шкуру спущу!
Из светлицы Евдокии Фёдоровны донёсся глухой, сдержанный плач. Царь схватился за голову и стрелой полетел на свою половину.