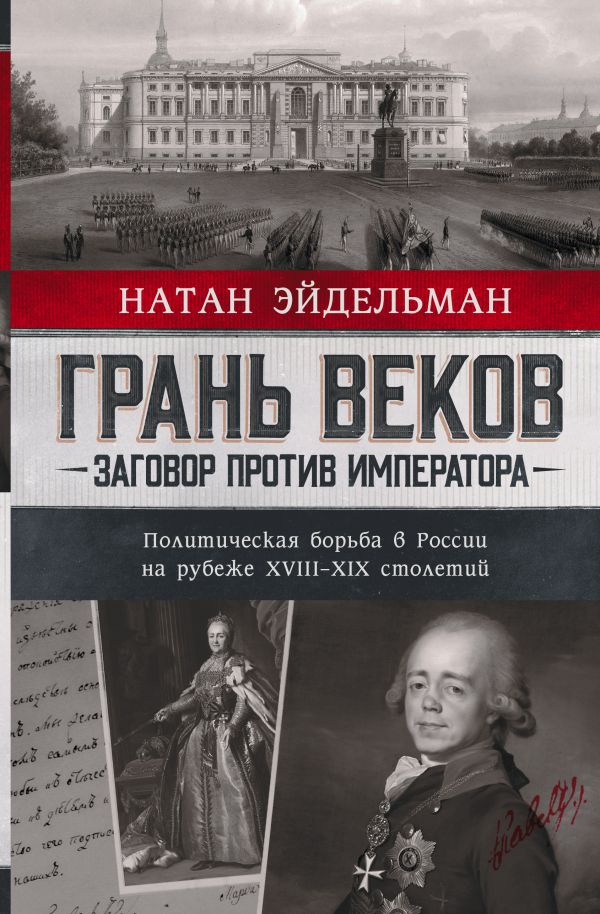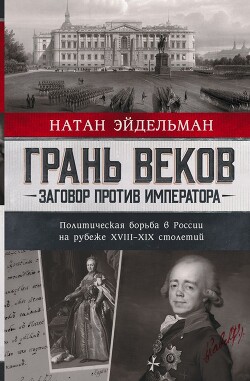она ожидала, и даже не проявил ни малейшего расположения ( … ). Она покорилась своей судьбе, только признав себя побежденной».
Так наступило утро 12 марта 1801 г. Государственный переворот заканчивался.
Один или двое раненых. Один убитый.
Радость, «всеобщая радость» … К вечеру 12 марта в петербургских лавках уж не осталось ни одной бутылки шампанского… Раздаются восклицания, что миновали «мрачные ужасы зимы». Весна, настоящая встреча XIX века!
Век новый!
Царь младой, прекрасный…
За сутки вернулись, круглые шляпы! Некий гусарский офицер на коне гарцует прямо по тротуару – «теперь вольность»!
Так обстояло дело, если верить подавляющему числу мемуаристов (по меньшей мере 9/10 из их числа).
Так было, но было и не так.
Большая часть страны неграмотна, и она-то в лучшем случае равнодушна или (как в рассказе Коцебу): «Народ стал приходить в себя. Он вспомнил быструю и скорую справедливость, которую ему оказывал император Павел; он начал страшиться высокомерия вельмож, которое должно было снова пробудиться…»
Правда, убитый император не вызвал сколько-нибудь заметной волны самозванчества – вроде десятков лже-Петров III до него и многих лже-Константинов после; но все же и двадцать лет спустя ссыльный бродяга Афанасий Петрович добывал себе пропитание в Восточной Сибири, называясь Павлом Петровичем, а шлиссельбургские солдаты, разглядывая одного из заключенных декабристов, Г. С. Батенькова, справлялись (по его словам), «не я ли Павел Петрович, ибо в народе есть слух, что здесь Павел Петрович сидит».
Народного движения под своим именем Павел не вызвал, видимо, потому, что историческая ситуация не соответствовала известному стечению обстоятельств, которое порождает мощное «народное самозванчество». Прежде всего заметим, что начало царствования Александра I не погасило народных надежд на «царя-избавителя». Александр сравнительно популярен, его имя как наследника известно народу, он в расцвете сил, к тому же второй царь-мужчина после почти непрерывного женского правления в 1730 – 1796 гг.
Реакция неграмотной массы на гибель Павла в основном пассивная, молчаливая. Но помышляет о мемуарах большая часть грамотных. Однако даже среди немногих записанных воспоминаний нашлось несколько невеселых.
Отец Кюхельбекера, вернувшись из дворца, сообщает жене о цареубийстве и слышит в ответ: «Ты обязан был умереть там».
С отвращением глядит на «оргию» и просвещенный офицер Саблуков: «У меня нет ничего общего с этими господами…»
Однако то, что было ясно 15 – 20 лет спустя членам тайных декабристских обществ (что так много можно было сделать для России вместо этой оргии!), еще не было столь отчетливым в первую весну XIX в. Пушкин в 1822 г. оценит первые послепавловские годы как «дней александровых прекрасное начало…». Стих имеет несомненный теневой смысл: «прекрасное начало», а затем отнюдь не прекрасное, аракчеевское продолжение александровского царствования, но в 1801 г. новое правительство начинало реформы и нельзя еще было представить, как далеко они зайдут. Одна из программ нового курса была сформулирована Лагарпом.
16 октября 1801 г. Ф. Лагарп подает царю секретную докладную записку, где размышляет насчет предотвращения на будущее «ошибок предыдущего царствования и доктрин, проповедуемых на юге Европы» (очевидно, подразумевая французскую революцию).
Программа бывшего воспитателя Александра, конечно, весьма осторожна и умеренна. «Ужасно, – пишет Лагарп, – что русский народ держали в рабстве вопреки всем принципам; но поскольку факт этот существует, желание положить предел подобному злоупотреблению властью не должно все же быть слепым в выборе средства для пресечения этого». Путь к прогрессу для просветителя Лагарпа ясен: образование (насаждение грамотности, школ, университетов), а также разумное законодательство, но не из рук парламента или иного представительного учреждения, а волею самодержца (разумеется, в его просвещенном, александровском варианте). Следствием просвещения и законодательства должны явиться меры к постепенному ослаблению крепостничества (ограничение покупки и продажи крестьян, показательная эмансипация на удельных землях и пр.). Самое интересное в записке Лагарпа (в общем не противоречившей планам царя и его круга) – откровенный и во многом пророческий разбор тех сил, которые будут за реформы и против.
«Против»: все высшие классы, почти все дворянство, чиновничество, которое держится за табель о рангах, большая часть торгового слоя, «почти все люди в зрелом возрасте», почти все иностранцы, те, кто боятся французского примера.
Кто же «за»? Образованное меньшинство дворян, некоторая часть буржуа» «несколько литераторов», возможно, «младшие офицеры и солдаты».
Силы не равны, но Лагарп кладет на весы реформаторов авторитет самого императора и считает, что – довольно! При этом из обоих списков исключается «народ в своей массе», который, как понимает Лагарп, желает перемен, но поведет их «не туда, куда следует».
Субъективные цели швейцарского просветителя возвышенны. Он отдает дань уважения русской нации, которая «обладает волей, смелостью, добродушием и веселостью. Какую пользу можно было бы извлечь из, этих качеств и как много ими злоупотребляли, дабы сделать эту нацию несчастной и униженной». Тем интереснее, что в этом проекте мы находим не только многое из назревавшего в самом деле к началу XIX столетия, но и оценку противоречивых, сталкивающихся сил. Впрочем, ни Лагарп, ни кто-либо другой в 1801 г. не мог вообразить, что прогрессизм «нескольких литераторов» и «молодых офицеров» очень скоро выведет русскую освободительную мысль к декабристским рубежам. Сразу после убийства Павла еще нелегко было представить, сколь уже близко серьезнейшее размежевание внутри единого с виду дворянства, радующегося «новому, младому, прекрасному царю».
После гибели Павла следует ряд реформ («в Лагарповом духе»): восстановление «Жалованной грамоты», усиление роли Сената, известные послабления крестьянам (закон о вольных хлебопашцах), создание нескольких университетов, лицеев…
Можно сказать, что эти преобразовании явились побочным продуктом того взрыва, который прекратил павловское царствование. И все же то была не революция, не «революционная ситуация» – иначе социально-политические перемены в стране были бы больше…
«Из заговорщиков, – писал иного лет спустя декабрист Никита Муравьев, – желавшие только переменны государя были награждены, искавшие прочного устройства – отвалены на век».
Замечание справедливое не в буквальном смысле, но в целом. Александр I в разные периоды своего царствовании обращался к умеренным конституционным проектам (Платона Зубова – в 1802 г.; Сперанского – около 1810 г.; Новосильцова – в 1818 г.). Поэтому опала, удаление из столиц Палена, Панина, И. Муравьева, Яшвиля объясняются не просто их конституционными взглядами, а прежде всего нежеланием императора принять хартию «из их рук», под их давлением; стремлением диктовать, а не писать под диктовку и главное, сохранить незыблемость самодержавных основ, замаскировав или даже укрепив их известными уступкам.
В этом смысл и сохранившихся рассказов, достоверных или легендарных, о том, что ряд влиятельных деятелей (Талызин,