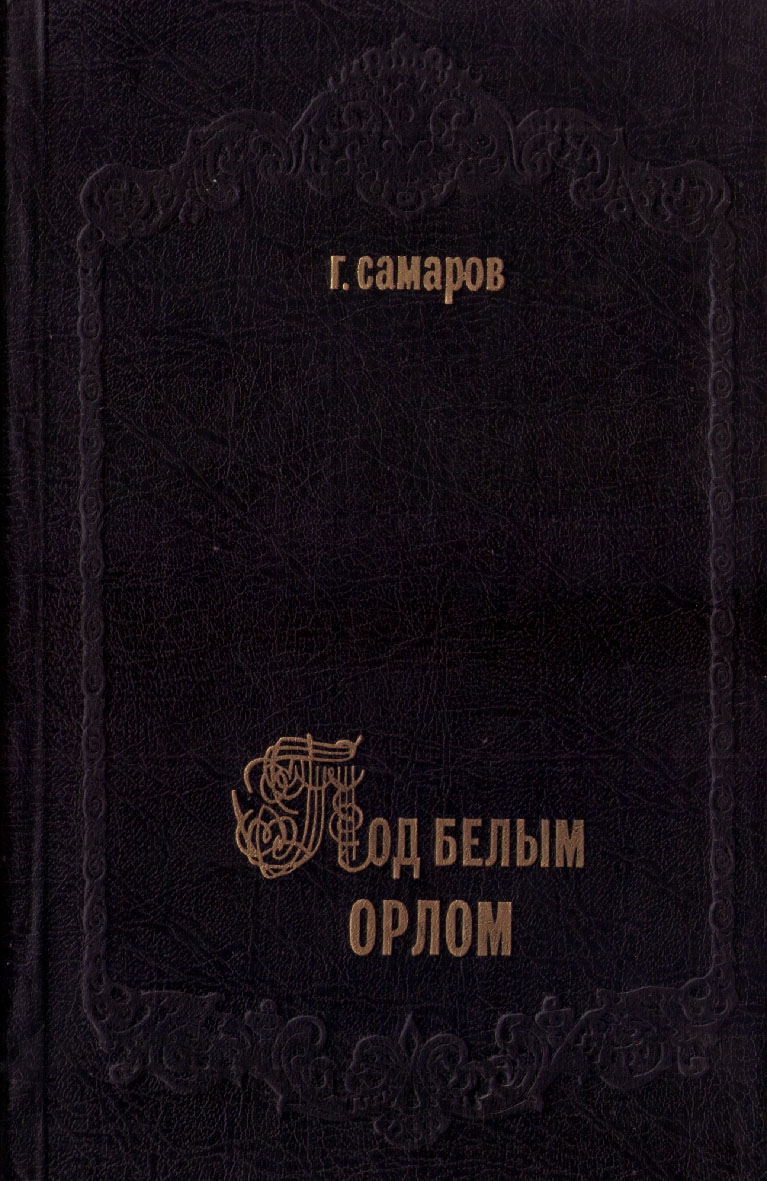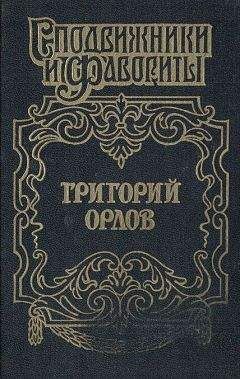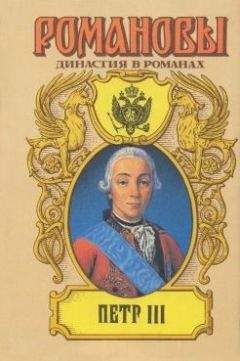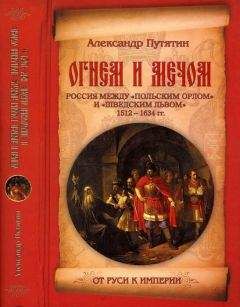навязало бы нам тяжёлую войну против восставшего храброго народа. Жертвовать бедною девушкой ради такого плана было бы и ужасно, и вместе с тем глупо.
— Но так как этот план оставлен, то мы ведь согласны друг с другом, — произнесла Екатерина Алексеевна, чтобы прекратить разговор.
— Не совсем, — возразил Потёмкин. — Вы, ваше императорское величество, предоставили этому жалкому Сосновскому своих казаков, чтобы вернуть эту бедную бегляночку; но вам не следовало делать это.
— Почему именно? — спросила императрица. — Разве я не обязана была прийти на помощь отцу против неповинующейся дочери?
Потёмкин, пожав плечами, ответил:
— Услуга, которую вы, ваше императорское величество, оказали ненавидимому во всей Польше Сосновскому, обращает ненависть лично на вас, тем более, что она была направлена против любимого повсюду юного Костюшки; к тому же ему покровительствует Игнатий Потоцкий и теперь он со всеми своими друзьями будет нашим непримиримым врагом.
Екатерина Алексеевна почти пристыженно потупилась.
— Ну, пожалуй, это ещё поправимо, — сказала она;— я взяла Людовику Сосновскую под своё покровительство, и хотя не могу приказывать отцу в его семейных обстоятельствах, но сделаю всё от меня зависящее, чтобы склонить его к уступчивости.
— Спросите его относительно его цены, — сказал Потёмкин, — это будет проще и надёжнее всего; тем не менее всегда лучше обходиться без ошибок, чем впоследствии с трудом и то лишь наполовину исправлять их. Если бы вы спросили у меня совета, если бы вы отдали мне своё приказание, — почти иронически-насмешливо прибавил он, — то я предостерёг бы вас от такого поспешного шага, который может принести лишь вред и осложнения. Но, разумеется, так как вы поручили это такому шуту гороховому, как этот Римский-Корсаков, то вы не могли ожидать ничего иного — глупость он постарался исполнить возможно глупее.
— Ты в скверном настроении духа, Григорий Александрович, — сказала императрица улыбаясь, но всё же несколько уязвлённая беспощадными нападками Потёмкина. — Я сочла то преследование настолько простою и естественною мерою, которую была обязана принять по жалобе отца, что поручила её своему адъютанту, не желая обременять тебя этим. Что сделал тебе бедняга Римский-Корсаков, что ты так сердито говоришь о нём?
В последнем вопросе императрицы послышалась почти боязливая робость.
— Против него я имею уже больше, чем против Бобринского, — ответил Потёмкин, окидывая проницательным взором Екатерину Алексеевну. — Бобринский никогда не принесёт своим нелепым шутовством стыда и вреда России, а Римский-Корсаков платит за милости своей императрицы, возвысившей его из праха, неверностью и низким предательством!
— Что ты говоришь? — испуганно воскликнула императрица. — Нет, нет, этого всё-таки не может быть, тебя обманули, — усмехаясь прибавила она затем, — ведь у бедного юноши так много врагов!
— Но к ним я не принадлежу, — прервал её Потёмкин. — Римский-Корсаков слишком мал для вражды Потёмкина, — гордо прибавил он. — Выслушайте меня, Екатерина, — продолжал он, прижимая к своим губам руку императрицы, на этот раз уже с сердечной теплотою. — Вам известно, что я своею ревностью никогда не препятствовал игре ваших капризов, вашей фантазии — называйте, как хотите! — в которой вы отдыхаете от трудов и забот своих тяжёлых державных обязанностей. Любовь — цветок, который распускается, благоухает и отцветает, который быстро увядает и опадает на землю и лишь в редких случаях приносит плоды. Наша любовь, Екатерина, принесла великолепнейшие на земле плоды — дружбу и доверие! Дари, кому хочешь, мимолётные, однодневные цветы своей любви, я никогда ребяческой ревностью не помешаю лёгкой игре, развлекающей тебя; но твою дружбу и твоё доверие я крепко держу железною рукою и стану защищать против всего света, даже и против тебя самой, Екатерина, если ты когда-нибудь пожелаешь пожертвовать ими ради минутной прихоти.
Императрица покачала головою и, крепко пожимая его руку, сказала:
— Никогда!
— Я крепко держу твою дружбу и доверие, — продолжал Потёмкин, — потому что знаю, что никто так не достоин её, как я, что никто не может быть для тебя и России тем, чем являюсь я. Только эта рука в состоянии, — воскликнул он, протягивая руку, — удерживать у твоих ног сильное государство, объединять всё растущие силы великанов в одной руководящей точке, лучи воли которой распространяются не только над Европой, но и над Азией; Пётр Великий оставил после себя бесформенную, бродящую массу; в твоей руке лежит скипетр государства, пред которым трепещет Европа и малейшему давлению шестерёнок которого она повинуется. Твой ум и твоя воля, Екатерина, создали это, но моя сила — орудие твоего ума и твоей воли, и ты не найдёшь никого, кто был бы способен на подобный труд. Румянцев мог выигрывать твои сражения; я отлично знаю, что он ненавидит меня и делает всё, чтобы лишить меня твоего доверия; но всё-таки он никогда не был бы в состоянии руководить согласно твоей воле всеми племенами, входящими в состав Российской империи, не мог бы сделать это, по крайней мере так, как могу сделать я, только я один!
— Я знаю это, Григорий Александрович, — совершенно убеждённым тоном произнесла Екатерина Алексеевна.
— И вот, — продолжал Потёмкин, — этот Римский-Корсаков начинает много мнить о себе; он не желает довольствоваться тем, что является игрушкой твоего досуга; он не довольствуется деньгами и почестями, которыми ты осыпаешь его, как из рога изобилия; он хочет приобрести твою дружбу и твоё доверие, дерзает желать стать орудием твоей власти.
— И ты боишься его? — с улыбкой спросила императрица.
— Я никого не боюсь, — воскликнул Потёмкин, — потому что никто не может сравняться со мною! Разве Атлант боится того, что кто-либо придёт отнять у него небо, тяжесть которого раздавит под собою всякого другого? Я не боюсь Римского-Корсакова, так как если бы я боялся кого-либо, то все перестали бы бояться меня. Но, как и Атлант не желает, чтобы рядом с ним становились пигмеи и насмехались над ним, подражая ему, так и я не хочу, чтобы этот зазнавшийся мальчишка, эта кукла в твоих руках, дерзал ступать на ту почву, которая принадлежит мне. Я не хочу, чтобы он отбрасывал венок цветов, которым должен украсить твою жизнь, и пытался играть скипетром, извергающим разрушительную молнию на всякого не призванного, слабого человека, подобное дерзкое любопытство должно снова повергнуть, его в прах, из которого он поднялся, и Римский-Корсаков тем более, тем неумолимее заслуживает наказания, что позорно забывает о своём первом долге: