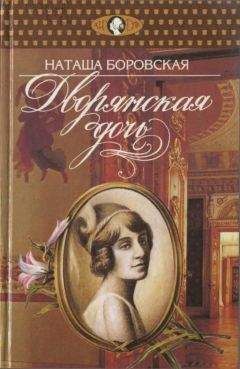Теперь надо мной склонился Алексей. Он приподнял мою голову и поднес рюмку водки к моим губам. Его лицо больше не было таким близким и дорогим. Еще немного, и оно превратилось бы в Бедлова-моржа. Я стиснула зубы и оттолкнула его руку.
— Алексей, позаботьтесь о няне и Федоре. Я хочу, чтобы меня поймали красные. Спасайтесь сами.
— Татьяна Петровна, вы же знаете, я не слишком терпим к славянскому духу самоистязания. Вы должны сделать усилие! Выпейте глоток водки.
— Оставьте меня в покое, — ответила я с раздражением.
Алексей вскочил с кровати и стал быстро ходить по комнате, теребя свою эспаньолку.
— Что за дурацкое положение! Как может считающийся умным человек оказаться в таком дурацком положении!
Теперь няня начала бранить себя за беспомощность. Кончилось это тем, что хозяйка сказала: если большевики найдут в ее квартире людей без документов, то она погибла.
Я резко встала и извинилась за причиненное беспокойство. Алексей вывел нас на улицу.
— Мне негде вас спрятать. Ждите меня на даче, — сказал он няне. — Я приеду за вами, как только смогу. Позаботьтесь о своей госпоже.
— Бог услышал мои молитвы и послал вашу честь. Мы будем ждать, — няня перекрестила его.
Федор ждал в указанном месте.
— Этот маленький черт, красный… он больше не пикнет, — коротко сообщил он.
Мы возвращались нашим утренним путем по льду, но когда мы шли по заливу, я остановилась и сказала Федору:
— Отнеси няню обратно на дачу. Ждите профессора. Оставьте меня здесь. Слышишь? Идите, оба!
Моя старая нянька начала сердито что-то бормотать. Я опустилась в сугроб. Больше всего в этот момент мне хотелось, чтобы меня оставили одну, совсем одну.
Федор поднял меня.
— Когда Ваше высочество были еще маленькой девочкой и не приходили, когда вас звали, Федор вас приносил.
— Федор, как ты смеешь! Опусти меня сию же минуту. Федор, ну пожалуйста, я пойду. Неси лучше няню. Фе-одор! — я визжала и молотила кулаками по его огромной груди.
Он не обращал внимания на мои крики, с легкостью неся свою ношу. Время от времени он останавливался, ждал, когда няня нас догонит. Наконец я прекратила эту бесполезную борьбу, положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Задремав, я представила себе, что это грудь Стиви, вот он пришел за мной и несет меня к быстрым саням. Но очнувшись, когда мы ступили на берег, я почувствовала лохматую, запорошенную снегом бороду моего лакея, покалывающую мне лоб, и подумала: «Нет, Стиви не пришел за мной, Стиви не мог прийти, потому что он мертв. Он убит, мой брат, он мертв, мой Стиви-ливи-обезьяньи уши, мой принц-витязь. Мой Бог. Папа мертв, Таник мертва, царевич Алексей мертв, князь Игорь мертв, они умерли все, все. Я могла бы жить без них всех, но без Стиви я не могу жить. Я не буду жить. Слишком скучен и отвратителен этот мир. Я не могу больше оставаться в нем».
Мы вернулись в темный и промерзший домик егеря. Федор затопил печь. Няня уложила меня в постель на моей скамье, завалив пледами и одеялами, так как от холода у меня даже стучали зубы. Она не могла заставить меня ни есть, ни пить. Я оставалась глуха к ее упрекам и увещеваниям.
Я отвернулась лицом к стене в ожидании смерти.
Слышался вой волков, на берегах замерзшей бухты бушевал буран. В домике егеря, где в былые времена цыгане развлекали папиных гостей-иностранцев, не было никаких признаков жизни. Смертельно уставшая после дневного путешествия няня похрапывала с приоткрытым ртом. Федор, несколько часов назад задушивший человека, безмятежно спал, положив под голову винтовку. Не спала только я, замерзшая, оцепеневшая от страшных событий последних дней, я даже не пыталась натянуть покрывало, когда оно соскальзывало с меня. Мне хотелось броситься в объятия этого всепроникающего холода.
Ближе к утру я почувствовала острую боль в груди и сильнейший озноб. Когда няня, проснувшись позже обычного, увидела меня, дрожащую под одним одеялом, она вскрикнула и подбросила дров в печь. К вечеру я бредила и жадно слизывала льдинки, которые няня прикладывала к моим потрескавшимся губам.
Всю ночь она просидела рядом со мной. Печь топилась, несмотря на то, что нас могли обнаружить. На рассвете она послала Федора за профессором Хольвегом. Федор вернулся с наступлением ночи с Алексеем, лошадью и санями.
Алексей помог няне одеть меня в шерстяную одежду, которую он привез с собой, и заставил меня проглотить снотворное с аспирином и горячим чаем. В полубреду я принимала его за доктора Боткина, убитого придворного врача, и кротко позволяла ему помогать мне. Затем Федор вынес меня через лес к длинным широким саням с дугой, стоящим на подъездной аллее перед крытой колоннадой дома. Льдинки свисали с лохматого брюха лошади и длинного ворса ног. Брови и усы кучера были подернуты инеем. Федор уложил меня на покрытое соломой дно саней, няня легла рядом со мной, натягивая на нас медвежий полог. За всем последующим я наблюдала, ничего не понимая и ни на что не реагируя, так, как будто это было не со мной.
— Здесь письмо с рекомендацией к моему другу, — Алексей вручил Федору пачку денег и конверт. Он также дал ему имя и адрес. — Он найдет для тебя работу и документы. Ты будешь с ним в полной безопасности. До свидания.
Федор удивленно вертел в руках деньги и конверт.
— Убери пока не потерял, — сказал Алексей раздраженно и, придерживая пальто, приготовился забраться в сани.
— Ваша честь, — Федор наконец понял то, чего не поняла я. — Возьмите меня с собой. Я могу нести на руках ее высочество, могу править лошадьми, водить автомобиль. Могу охотиться. Я сильный. Я вам пригожусь. Позвольте мне поехать с Татьяной Петровной, ради Бога!
— У меня нет для тебя документов. Ты слишком заметный и многим хорошо известен. Через тебя могут выйти на княжну. Мне ужасно жаль, но это невозможно.
Лицо гиганта выражало полное отчаяние.
— Пелагея, скажи его чести, — обратился он к моей старой няньке, которая, привстав, смотрела на него своими темными, всепонимающими глазами.
— Не могли бы мы взять его? — отважилась спросить она.
— Это невозможно, — резко оборвал ее Алексей. — Совершенно невозможно!
Федор подошел к саням с моей стороны.
— Татьяна Петровна, сделайте милость! Я носил вас на руках, когда вы были маленькой девочкой. Играл на балалайке, когда вы плакали. Вы ведь не бросите вашего Федора, правда? Скажите его чести, Христа ради!
Я не оставила бы моего Федора ни за что на свете, но я не понимала тогда, что меня увозят.
— Я хочу пить, мне холодно, трудно дышать, — я металась и пыталась сбросить что-то тяжелое, давящее на грудь. И в этом простодушном детском лице с заснеженными бакенбардами и усами я видела не Федора, а Бедлова-моржа. В ужасе я отвела глаза, и няня, тихонько напевая, укрыла меня до самого подбородка. Потом старушка посмотрела на Федора своими до такой степени русскими глазами, которые одни только и могут понять любой ужас, любую несправедливость, подлость и печаль.
— Спаси тебя Господи и помилуй, — быстро сказала она, перекрестила его, а затем откинулась назад под медвежий полог, рядом со мной.
Алексей уже сидел в санях.
— Ладно, все готовы, — резко крикнул он кучеру с узкого сидения, похожий на сердитый меховой шарик в своем вязаном шарфе, закутывавшем лицо, и подбитой мехом шапке, надвинутой на самые брови. Кучер повернулся всем телом к нам и выпустил из бороды белое облако пара:
— Ваша честь, вам лучше тоже лечь вниз, ветер так и режет.
— Не беспокойся об этом. Поезжай.
Кучер взялся за вожжи и свистнул. Лохматая лошадка пошла спотыкающейся рысью к противоположному берегу, и полозья заскрипели по снежному склону холма, на котором стоял наш дом.
Сколько раз я рисовала себе эту ночь побега из Петрограда, когда я оставила позади не только могилу отца и родные места, но и живого человека, мысли о судьбе которого преследовали меня всю мою жизнь.
Я все еще вижу эту сцену: темно, холодно, идет снег. На лесистом берегу замерзшей бухты, где когда-то слышались звуки цыганского пения, балалайки и аккордеона, воют голодные волки. Перед белым домом с колоннадой и высоким мезонином, посреди пустой аллеи стоит бородатый гигант. Конверт выпадает из одной руки, из другой — пачка бумажных рублей, которые медленно падают, кружась, как снежинки.
И оттуда доносится страшный вой, который я отчетливо слышу в своем бреду. И это был не голодный волк. Так выл живой человек, человек из народа, брошенный и преданный, как и весь его народ.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Дорога в невозвратное
1918–1920
Три месяца путешествия от северного к южному побережью России остались в моей памяти лишь как непрерывное, причиняющее боль движение, да часто сменяющие друг друга потолки и небеса надо мной.