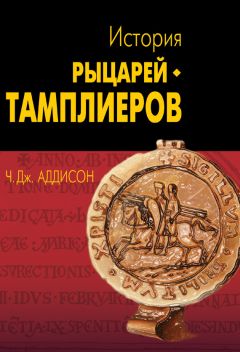Ознакомительная версия.
На ней заключенные, по всей видимости, должны были спать.
Больше в камере не было ничего: ни стола, ни стула, ни посуды.
«Да-а, – подумал я, оглядывая это мрачное помещение, – не позавидовал бы я здешним узникам».
Тут мне пришло в голову, что как только я вошел в эту камеру, плач прекратился. Здесь стояла гробовая тишина.
«А может, я ошибся и звуки доносились из какой-нибудь другой камеры?» – подумал я.
Чтобы проверить эту версию, я вышел в коридор. Как только я прикрыл за собой дверь, за ней снова ясно раздались рыдания и женский голос. Это было словно наваждение какое-то! Я точно знал, что звуки доносились именно из того помещения, в котором я был.
Я снова резко распахнул дверь – тут же все стихло. Таким макаром я действовал минут пять. Потом, решив, что я, наверное, с ума схожу, я плюнул на это бессмысленное занятие.
«Меня же Ева ждет, а я тут неизвестно чем занимаюсь», – подумалось мне. Но почему-то уходить не хотелось. Оставалось ощущение, что я не завершил того, ради чего пришел сюда.
Ругая себя, на чем свет стоит, я все-таки решил в последний раз снова войти в камеру, сам не зная, зачем мне это было нужно.
Естественно, как только я открыл дверь и вошел в помещение, все звуки смолкли. Но я уже не удивлялся – привык. Мне пришло в голову осветить фонариком все углы камеры. Спроси кто-нибудь меня в тот момент, для чего я все это делаю, я бы не смог ответить. Я начал с того угла, у которого лежала солома. Присел на корточки и начал методично обшаривать ее.
Конечно, ничего не нашел. Потом поднялся и стал освещать метр за метром стену. На некоторых камнях, из которых были сложены стены, я увидел выдолбленные на них непонятные знаки. Я не мог разобраться, что они означали. Были ли это буквы или рисунки, так и осталось для меня загадкой.
Осмотрев первую стену, я принялся за другую, потом за третью, но с теми же нулевыми результатами. Наконец, чувствуя себя законченным идиотом, я перешел к последней, четвертой стене. Сначала все было как обычно: каменная стена, а на ней – кое-где загадочные значки. Когда я поднял фонарик на верх, под самый потолок, мне показалось, что один из камней пригнан не так плотно, как все остальные.
Подозревая, что это у меня так фантазия разыгралась, я все-таки решил проверить, действительно ли этот камень как бы сдвинут с места. Переложив фонарик из правой руки в левую, я попытался пошевелить камень. К моему великому удивлению, он поддался. У меня даже дух захватило! Я продолжал свои попытки. Сначала камень только слегка шевелился, потом, когда я применил всю свою силу, начал двигаться в стене. После долгих трудов мне наконец удалось вынуть его. Сверху мне на лицо посыпался мусор, глаза защипало от попавших соринок. Поэтому я не сразу разглядел, как в щели, образовавшейся в стене, что-то поблескивает. Я протянул руку и начал ее обыскивать. Мои пальцы нащупали какой-то маленький, похоже, металлический предмет. Я взял его в руки и поднес под луч фонарика.
Это была монета. Маленькая, кажется, серебряная. На ней были изображены знаки, напоминающие те, которые я видел на каменной стене. Не долго думая, я положил монету в карман и вышел из камеры. По привычке, как только за мной закрылась дверь, я прислушался, ожидая услышать женский плач. Но в коридоре стояла тишина. Звуки прекратились. Я поспешил к Еве, подумав, что она там, наверху, наверняка с ума сходит от страха.
Интермедия 1
Мануэлла стояла перед отцом-инквизитором Антонием, низко склонив голову. Ей было очень страшно. Страшно не только от того, что он на протяжении двух часов грозил ей всеми мыслимыми и немыслимыми карами, но и от его взгляда, пронизывающего насквозь.
– Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? – строго спросил он.
– Да, – чуть слышно прошептала Мануэлла, не поднимая головы.
– Я принимаю во внимание твой юный возраст и незапятнанную репутацию. Отец Карлос говорил мне, что ты исправно посещаешь все богослужения. Только поэтому на первый раз дело ограничится предупреждением. Но помни, – даже не глядя на отца Антония, Мануэлла почувствовала, как грозно сверкнули его глаза, – помни, повторил он, повысив голос, – если до меня или кого-нибудь из святых отцов дойдет слух о том, что ты продолжаешь заниматься своим богопротивным ремеслом, то пощады тебе ждать не придется. Ты поняла меня, Мануэлла?
– Да, – так же тихо ответила девушка.
На самом деле она почти ничего не понимала от страха. Ей хотелось только одного – выйти поскорее из этих мрачных давящих стен и избавиться от жуткого взгляда отца Антония.
– Хорошо, ты можешь быть свободна.
Инквизитор милостиво махнул рукой, отпуская Мануэллу. Ничего не видя перед собой, девушка добрела до двери, ведущей на улицу. Стражники расступились перед ней, и Мануэлла оказалась на свежем воздухе. Только когда, она увидела солнце, стала приходить в себя.
Если от одного только разговора с отцом-инквизитором ей стало так дурно, то что же бывает с теми, кому уже предъявили обвинение и приводят к нему на допросы? Об этом даже подумать было страшно.
«Нет-нет! – говорила себе Мануэлла, медленно идя по улице.
– Никогда в жизни я больше не захочу делать этого снова.
Сколько бы они меня не умоляли, я никогда не соглашусь.
Пусть все от меня отвернутся! Но я не хочу снова попасть в это страшное место и стоять перед отцом Антонием».
Потом ей пришло в голову, что просто стоять и слушать его – еще не самое страшное. Мануэлла много слышала о том, что творится в застенках дворца, куда попадали все обвиненные в ереси, колдовстве и богоотступничестве.
Конечно, они были самыми настоящими преступниками и перед богом, и перед людьми, и жалеть их не следовало. Но все равно кровь застывала у нее в жилах, когда она слышала рассказы о страшных пытках, которым инквизиторы подвергали еретиков.
Когда после проповеди в церкви к Мануэлле подошел отец Карлос и сказал, что ее хочет видеть отец Антоний, девушка не на шутку перепугалась. Он понимала, что такое приглашение не предвещает ничего хорошего. Но ей и в голову не могло прийти, что инквизитор обвинит ее в причастности к черной магии. Она ведь и в мыслях не имела ничего плохого.
Просто у Мануэллы открылся дар помогать больным людям. И она помогала, по мере своих сил. Девушке, как и всем ее родным, казалось, что она, наоборот, совершает богоугодное дело. Но они ошибались. Отец-инквизитор только что сказал ей:
– Только небеса вправе определять срок человеческой жизни.
А тот, кто самовольно вмешивается в течение бытия, совершает страшный смертный грех и должен понести наказание.
Не то чтобы святые отцы вообще запрещали излечивать людей от болезней. Но необходимо было, чтобы лечение проводилось известными, традиционными средствами. А Мануэлла сама не могла объяснить, как ей удается лечить людей.
Очень давно, когда она с родителями жила еще не в Мадриде, а в маленькой прибрежной деревушке, к Мануэлле подошла старуха, которую она никогда в жизни не видела, хотя знала все население поселка, и попросила у нее хлеба. Хотя ее семья была не из богатых, Мануэлла всегда старалась помогать тем, кому в жизни приходилось еще тяжелее. Поэтому она без колебаний протянула старухе краюху хлеба, которая должна была послужить ей обедом. Старуха взяла хлеб и, посмотрев на девочку черными, глубоко запавшими глазами, сказала:
– Ты чистое и доброе дитя. Я хочу отблагодарить тебя, – и протянула ей маленькую монетку.
Мануэлла хотела было отказаться, но старуха, не слушая ее, повернулась и заковыляла прочь. Она исчезла за поворотом, а маленькая Мануэлла так и осталась стоять с монеткой в руке.
Девочка не знала, что ей делать с этим неожиданным подарком.
Она прибежала домой и рассказала обо всем своей матери.
– Какая добрая женщина! – произнесла мать, выслушав Мануэллу. – Вот видишь, дитя, как вознаграждает нас господь за добрые дела. Храни эту монетку на память. Она наверняка принесет тебе счастье.
Мануэлла так и сделала. Несколько лет спустя их семья, спасаясь от эпидемии какой-то неизвестной страшной болезни, постигшей прибрежные провинции, переехала в пригород Мадрида. Девочка продолжала хранить монетку, как дорогой сердцу талисман.
Когда Мануэлле исполнилось шестнадцать, она обнаружила в себе дар исцелять людей. Это произошло совершенно неожиданно. Как-то зимой они с матерью отправились к заболевшей соседке, которую звали донья Исабель. Женщина уже второй месяц не вставала с постели и с каждым днем все больше угасала. Ее обезумевший от горя муж приводил к ней нескольких врачей, но все они в один голос твердили, что надежды на выздоровление нет. Донью Исабель любили все – это была прекрасная, добрая женщина, которая помогала каждому, кто к ней обращался.
Мануэлла сидела в сторонке и слушала разговор ее матери с доньей Исабель. Она видела, что эта женщина очень страдает от сильной боли, но делает вид, будто ей не так плохо, чтобы не расстраивать своего мужа. Донья Исабель даже улыбалась, и на первый взгляд казалось, что она идет на поправку. Но Мануэлла ясно видела – это совсем не так, женщина очень больна. Она осмотрелась: вокруг больной толпились ее пятеро детей, старшему из которых было четырнадцать, а младшему – два. Девушке стало так жаль и эту страдающую женщину, и ее детей, и поседевшего от горя мужа, сидящего в уголке и следящего взглядом за женой. И тогда Мануэлла подумала, что на свете отдала бы за то, чтобы помочь донье Исабель. Вдруг она почувствовала в себе прилив сил. Повинуясь какому-то странному импульсу, она встала и подошла к кровати больной.
Ознакомительная версия.