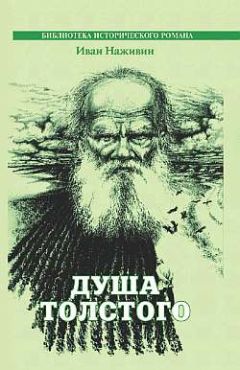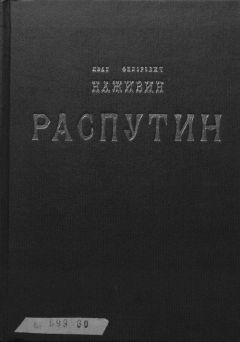Нельзя, говоря об этом периоде, не отметить попутно очень характерной, очень толстовской черточки. Один из его биографов, Загоскин,[13] рассказывая об университетских годах Толстого, пишет, что среда, в которой вращался о ту пору молоденький студентик Толстой, была барская, «развращающая» среда и что Толстой инстинктивно должен был чувствовать протест. Толстой, уже стариком просматривая воспоминания Загоскина, помечает: «никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе. Очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хотя и праздной, и роскошной, но не злой жизнью». Эта подлинная собственноручная пометка уже седого Толстого говорит только о том, как осторожен должен быть биограф, изучающий эту сложную, бурную, всю сотканную из противоречий натуру, как не должен он верить Толстому. Если расшифровать эту пометку, то вот что получится: «я тебя терпеть не могу с твоим либеральничаньем и осуждением людей и не смей подсказывать мне, где я должен испытать „протест“ и где не должен». На самом же деле, если пресловутого «протеста» он тогда еще и не испытывал, то из множества мелких фактов ясно видно, что раздвоение в этой душе уже намечалось, что светлое и мирное анданте его детства кончилось и все ярче и горячее звучало бурное аллегро его молодых лет.
Он в самом деле много веселился, танцевал на балах, участвовал в любительских спектаклях и живых картинах и довольно скверно учился. Его больше тянули самостоятельные занятия, и он то сравнивает «l'Esprit des lois» Монтескье[14] со знаменитым «Наказом» Екатерины, то раздумывает над писаниями Руссо. И снова книги летят прочь, и он опять пирует, слушает цыган, едет на охоту и уже тянется робко к женщине. И как ни завлекательны для страстной души его все эти яркие и жаркие заманки жизни, он не может отдаться им целиком, его мысль кипит, и душа все шире и шире раскидывает свои огненные кры лья для дальних полетов. Отдавая дань религиозному складу своего сердца, он усердно посещает церковь и даже сочиняет сам проповеди, и с большой уже дерзостью вскрывает те условные лжи, которыми переполнена жизнь человеческая. Один из его товарищей, с которым он сидел вместе в темном университетском карцере за какую-то провинность, рассказывает, как при свете сальной свечки, которую Толстой тайно пронес в карцер в голенище, он бурлил пред ним своей молодой, но уже смелой мыслью:
«Заметив, что я читаю „Демона“ Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет. „История, – рубил он с плеча, – это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, – что же это как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история? Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного и свирепого тирана. Как и почему, об этом не спрашивайте…“
Затем вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и на университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем желании остаться равнодушным я хохотал, как помешанный.
– А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны? Кому нужны?…
В этих разговорах провели всю ночь. Едва забрезжило утро, как отворилась дверь, – вошел вахмистр и, раскланявшись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам. Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул храм и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только что просыпающейся улицы. Отяжелевшая точно после угара голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению».
И для Толстого все эти рассуждения не были праздным кипением, мысли пленной раздражением, как это часто бывает у русских людей: эти мысли всплывут многие годы спустя в его проповеди. И мало того: и в карцере-то он сидел за непосещение лекции истории. А весной 1847 года, разочаровавшись в университетской науке окончательно, он подал прошение об увольнении его из университета и, когда славная речка Казанка гуляла по полям и лесам, студенты шумно проводили своего буйного товарища в неизвестное. И все, что напоминает теперь о пребывании Толстого в Казанском университете, это надпись, нацарапанная ножом или гвоздем на стене одной из аудиторий: «граф Лев Николаевич Толстой…»
Р. Левенфельд в своих «Gespräche mit und über Tolstoy»[15] рассказывает, как он, будучи в Ясной, спросил уже знаменитого писателя, почему он при неутолимой жажде своей к знанию, все же оставил университет.
«– Да в этом-то, может быть, и заключается самая главная причина моего выхода из университета… – отвечал Толстой. – Меня мало интересовало, что читали наши учителя в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном и том же направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь предмет, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на один этот вопрос. Так было со мной и в Казани…»
А еще позднее он говорил, что причин оставления университета было две: во-первых, брат кончил курс и уезжал, а во-вторых, работа над «Наказом» Екатерины и «Духом Законов» Монтескье открыла ему новую область самостоятельного умственного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей.
Прочитанные за это время книги с его пометками о силе произведенного ими на него впечатления показывают отчасти, куда тянулась больше всего эта бурная душа: «Евангелие от Матфея», «Нагорная проповедь» – огромное, Стерн,[16] «Сентиментальное путешествие» – очень большое, Руссо, «Исповедь» – огромное, «Эмиль» – очень большое, «Новая Элоиза» – очень большое, Пушкин, «Евгений Онегин» – очень большое, Шиллер, «Разбойники» – очень большое, Гоголь, «Шинель», «Иван Иванович и Иван Никифорович», «Невский проспект», «Вий» – большое, «Мертвые души» – очень большое, Тургенев, «Записки охотника» – очень большое, Дружинин,[17] «Полинька Сакс» – очень большое, Григорович,[18] «Антон Горемыка» – очень большое, Диккенс, «Давид Копперфильд» – огромное, Лермонтов, «Герой нашего времени», «Тамань» – очень большое, Прескотт,[19] «Завоевание Мексики» – большое…
К этому казанскому периоду его жизни относятся воспоминания о его брате Дмитрии, имевшем на него большое влияние, и которые нам показывают, что избранный потом Толстым путь ничего особенно нового в себе для семьи Толстых не заключал. Вот нарисованный им портрет его брата Дмитрия:
«Митенька – годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что в детстве он был очень капризен; рассказывали, что… он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом так же злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее… Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани… До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ… и учился хорошо и усердно. Помню, учитель… определил по отношению к учению нас, трех братьев, так: Сергей и хочет, и может, Дмитрий хочет, но не может (это была неправда) и Лев и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда…