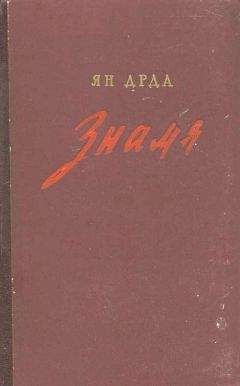Есть Хоура-пастух, хотя он работает на шахтах кузнецом. И Хоура-кузнец, который как раз не кузнец, а сапожник…
Впрочем, для того чтобы перечислить всех, мне пришлось бы, пожалуй, говорить до утра. Я уж лучше сразу расскажу о своем папаше, о том самом, кого вот уже многие годы называют в поселке Хоура-знаменосец. В нынешнем году ему стукнуло семьдесят семь, нашему старику. Неплохой возраст для шахтера, не правда ли? Не подумайте, однако, что это какой-нибудь дряхлый, беспомощный старец. Какое там! С тех пор как у нас в Подлесье организовано охотничье общество, он, например, стал работать в лесничестве. Каждый день бродит по лесу со своей двустволкой. Когда-то он много дел натворил с этим ружьем! Как же, ведь наш папаша был самым отчаянным браконьером в области — это, значит, еще при графах, в старину. Всякий раз, как из лесу доносилась особенно жаркая пальба, люди в поселке говорили: «Черт возьми, ну и палят сегодня! Это уж, наверно, Хоура…»
Но никогда ни одному лесничему не удавалось его поймать: папаша знает лес лучше, чем сто лесничих. И вот, посмотрели бы вы на него сейчас! Главный начальник лесничества частенько говорит ему: «Хоура! На вашем участке настоящий порядок. Просто хоть на выставку…» Недаром говорят, что именно из браконьеров получаются лучшие лесничие. Но что касается нашего старика, то тут дело в другом. Он ведь и браконьером-то был, в сущности, только потому, что не соглашался признать господ настоящими хозяевами леса.
«Леса принадлежат всем, а господа только украли их у нас», — так толковал он покойной мамаше, когда та еще в молодости умоляла его покончить с браконьерством. И вот, смотрите-ка, леса теперь действительно принадлежат всем, и папаша по праву хозяйничает в них. Ох, как он не терпит браконьеров! Ну для них он сущая гроза… Если ты честный трудящийся, зачем тебе браконьерство! Запишись в наше общество и участвуй в охоте как полагается. Но не обкрадывай республику, потому что теперь страна принадлежит мне, тебе, трудовому народу, и никакому негодяю мы не позволим ее обворовывать… Вот как он рассуждает, наш старик. Ну, а если среди нарушителей попадется ему какой-нибудь молодчик из сельских богачей, еще не утерявший своей спеси, то уж берегись. Тут уж, голубчик, со стрельбой будет навсегда покончено.
Но как он ухаживает за животными на своем участке, наш папаша, просто посмотреть приятно… Каждый день, в любую погоду, хоть бы снег был по пояс, но непременно пойдет проверить, приготовлена ли еда, все ли как надо сделали помощники. И как он строго следит за тем, чтобы для охоты из стада серн выбирали лишь самых слабых!.. Это не то, что прежде, когда охотники били всех подряд. Когда же фазаньи самки сидят на яйцах, честное слово, папаша сам ходит вокруг, как наседка, — все тревожится, чтобы не подобралась какая-нибудь бродячая кошка или куница… Но я все отвлекаюсь и отвлекаюсь от главного… Почему же все-таки нашего папашу называют Хоура-знаменосец?
Дело в том, что долгие годы папаша был знаменосцем. Сначала в рабочем кружке, а позже в организации социал-демократов, когда такая появилась у нас. Все это было еще до первой мировой войны. И каждый, кто видывал тогда нашего папашу, рассказывает, что не встречал более представительного знаменосца: флаг в руках — это ведь не палка, с которой идут в лес за орехами, и не церковная хоругвь, что свободно колышется над головами. «Наш красный флаг, — частенько говаривал папаша, — это вещь дорогая, священная. Его красный цвет — это пролитая рабочая кровь. С красным флагом, голубчик, ты должен держаться так, словно идешь в бой, чтобы зажечь сердца тех, кто шагает вслед за тобой. Ты должен быть, как живое изваяние: голова поднята, взгляд устремлен вперед, шаг твердый и четкий, хотя бы жандармы стояли перед тобой. И руки твои должны чувствовать, что они держат именно флаг. Нельзя допустить, чтобы он висел безжизненно и нескладно, словно пиджак на вешалке. Не-е-т! Он должен свободно развеваться по ветру, так, чтобы сами собой образовались красивые складки, так, чтобы красный шелк казался живым, как огонь, как кровь…
Так вот, в продолжение двадцати лет папаша на демонстрациях, на праздновании Первого мая шел впереди с красным рабочим флагом в руках. Сколько раз гонялись за ним жандармы, сколько раз упрятывали его в тюрьму!.. Но никому не удавалось выхватить из его рук красный флаг. И сейчас еще, например, вспоминают ребята, как в восемнадцатом году, когда шахтеры провозгласили в нашем городке республику, папаша прошел с флагом сквозь целый кордон солдат (одни чужаки, говорят, были эти солдаты) и увлек за собой всех, кто струсил было при виде винтовок. А в двадцать первом году, после того как мы, Хоуры, пошли за Третьим Интернационалом и порвали с социал-демократами, у папаши пытались отнять флаг…
Двадцать лет этот флаг находился в нашем доме. Папаша ни за что не соглашался оставлять его в помещении союза — в трактире.
«Не место рабочему флагу в трактире, где гуляют да пьют. Под крышей дома рабочего — вот где он должен храниться», — так говорил папаша. И товарищи согласились с ним. Дома папаша специально оборудовал небольшую каморку для флага. И как оборудовал! Она была чисто убрана, побелена, на стенах висели портреты Маркса и Энгельса и еще одна картина — не помню уж чья! — изображавшая, как Свобода ведет народ на баррикады. Не знаю, поверите ли вы, но в эту каморку папаша никогда не входил в шапке. На полочках у него лежали старые газеты — «Заря», «Право», «Сентябрь», рабочие календари, брошюры, песенники. Но если, сохрани бог, мать пробовала припрятать в каморке что-нибудь из домашних вещей, тут начиналась гроза… Настоящая гроза, должен вам сказать, хотя вообще-то наш папаша — большой добряк.
И вот, представьте себе, появляются однажды двое — некий Филка и молодой Бургр, который стал чиновником в больничной кассе потому, что умел хорошо выслуживаться перед хозяевами. «Товарищ Хоура, ты порвал с социал-демократами. Наша организация послала нас за флагом…» Папаша покраснел, сжал зубы, а потом как крикнет матери: «Марьянка! Открой двери!..»
Мать, конечно, послушалась. Папаша шагнул к своим гостям, схватил каждого за воротник, пронес их через комнату, через коридор до порога — и сбросил с крыльца. Я как раз собирался идти в шахту в послеобеденную смену. Я сказал папаше: «Смотри, это может плохо кончиться. Тебе следует посоветоваться с товарищами на тот случай, если эти снова вздумают прийти к нам…» Но куда там! Папаша накричал на меня. Он, дескать, сам сумеет справиться, и пусть я держу свои разумные советы при себе.
Не следовало мне идти в тот вечер в шахту, но что поделаешь, так уж случилось…
Домой я вернулся поздно — примерял в половине одиннадцатого. И едва доработал до конца смены, все валилось из рук. Товарищи опрашивали, чем это я так расстроен, а я чуть было не рассказал им все да вовремя удержался. Подумал, что папаша сильно рассердится, если пойдут об этом разговоры, и что после полученного урока, быть может, к нему не сунутся больше за флагом. Но, подходя к дому, я понял, что стряслось что-то нехорошее. Обычно у нас укладывались спать вместе с курами, потому что вставали до рассвета (отец ту неделю работал в утренней смене), а тут вдруг в окнах свет. Я бросился бегом к крыльцу, ворвался в комнату и вижу: у стола сидит заплаканная мать, Всхлипывают сестры Аида и Марука, словно на похоронах. А папаши нет…
— Где папаша?!
Из-за слез мать так и не смогла мне ничего ответить. Лишь спустя несколько минут удалось выпросить у девушек, что случилось… Представьте себе, что эти подлецы прислали за флагом — за красным рабочим флагом… жандарма! И как раз этого рыжего Зунта, австрияка, который во время войны отнимал у наших женщин все до последнего зернышка и которого люди после переворота хотели повесить… Его; вынуждены были тогда перебросить на два года в другое место. А потом, после двадцатого года, когда кое-кто решил, что у рабочего класса уже выбиты зубы, этот милейший Зунт как ни в чем не бывало опять объявился у нас.
Да, так вот этот самый Зунт пришел к нам и — именем закона! — начал орать на папашу. Нужно сказать, что папаша вовсе не великан, но силы у него в ту пору было достаточно. Зунт понадеялся на винтовку да на закон, но не успел он взяться за ремень и прицелиться, как папаша вскочил и прыгнул… От стола к двери… Хороших три метра… Оба они упали затем на землю. Кто кого! У винтовки оторвался ремень, от плаща Зунта отлетели пуговицы, шапка его покатилась в сторону. Папаша одержал верх. Он схватил Зунта, как мешок ячменя. На этот раз он не требовал, чтобы мать открыла дверь, сам распахнул ее одним ударом ноги. И швырнул жандарма с крыльца прямо в навозную кучу. Зунт убежал без шапки. Как видно, кинулся прямо за помощью. Папаша вернулся в комнату молчаливый и только тяжело дышал. Мать принялась плакать: «Что теперь с нами будет!» Но папаша прикрикнул: «Что будет, что будет!.. Посадят меня — и больше ничего! Не в первый раз и не в последний…»