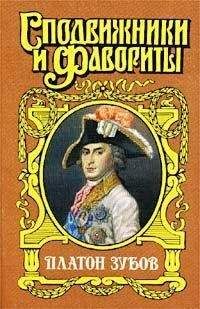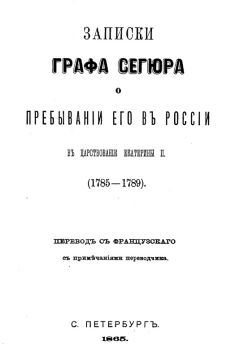Сядь, сядь, Марья Саввишна. Спросить тебя хочу. Как тогда с Васильчиковым было? Как он во дворце задомовился? Толки какие шли? Знаю, помнишь, все помнишь.
«Толки, государыня? Толков, известно, немало было. Только все больше среди лакеев да горничных. Больно щедро их граф Григорий Григорьевич одаривал». — Моими же деньгами. — «Да разве прислуга разбираться станет — были бы деньги. Ну, еще известно, медхенов вниманием не обижал. Каждой лестно — души в нем не чаяли. Потому и переполошились. Боялись Александра Семеновича: каким-то окажется. А он их боялся. Как в коридор выйти — подглядывал, чтоб лишнюю персону не встретить. Робок был».
— Да уж с такой робостью в личных апартаментах делать нечего. Нянька ему была нужна, одно скажу. — «Строги вы, государыня, ой, строги. И то сказать, откуда пареньку куражу набраться, коли и в подарках ему сами вы жались. Куда было Александру Семеновичу до графа Григория Григорьевича!» — Как это мало? По моему соображению предостаточно. — «А хотите, государыня, подарочки все ваши сочту? Для интереса? Началось-то с табакерки. Всего-навсего». — Золотой! — «Не серебряной же! Сто тысяч рублей вы ему ассигновали». — И на дом. — «И на дом. Только дом-то не Бог весть какой — за 50 тысяч». — Столько же и отделка стала. И место какое — на Дворцовой площади, прямо напротив Зимнего. — «Отделку кончить не успели, как паренек апшид получил. Убивался очень, что пожить ему в нем не удалось».
— Это целыми-то днями мне глаза мозолить! Ну, уж уволь. И ему выгодней: дом в казну купили. А еще драгоценности, крестьян сколько тысяч душ — и все скучнейшему гражданину в мире! — «Привязался он к вам душой, государыня». — Привязался! Кто его о том просил? Поживее бы был — другое дело.
«А мне так жалко паренька. По сей день жалко. Обходительный. За корыстью не гнался. Какую малость ни получит, за все почтительнейше благодарит. За белье, за посуду, за деньги на устройство дома в Москве, за пенсион, что ему назначили». — Не помнишь, сколько? — «Помню — 20 тысяч рублей. Годовых. У брата поселился на Волхонке. О женитьбе да семье и говорить не стал. Монахом так и живет, все говорят».
— Перестань причитать, Марья Саввишна. Иди с Богом. Еще хуже тоску нагнала. — «А с питьем-то как, государыня?» — Простокваши поставь. Иди, иди и дверь поплотней притвори. Ничего со мной не будет. Обещаю. Не карауль зазря.
О Зориче, поди, не стала бы так вспоминать. Да и никто другой. Теперь понятно стало: чего папа ни делал, чтобы Завадовского опорочить. Государственными делами стал интересоваться. С послами иностранными дружбу завел. Так и появился этот дикарь. При других обстоятельствах, может быть, и не взглянула бы, а тут… Наваждение. Чистое наваждение.
Умел папа сказки сказывать. Серб. Герой. Настоящего имени и не выговоришь. Спасибо, дядюшкино попроще. Шестнадцати лет в Семилетней войне участвовать стал. Сразу был ранен, из плена выбрался, подпоручиком за смелость в бою стал.
Чего только дальше не было! Не врал папа — проверяла. Зверь настоящий. Татар в Бессарабии разбил. Туркам через Прут переправиться не дал. Без малого пять лет в Константинополе в Семибашенном замке в темнице отсидел — до самого Кучук-Кайнарджийского мира. Потемкин его привез, весь Петербург в смятение привел. Росту огромного. Косая сажень в плечах. Руки раскинет — впору медведя обхватывать. Грудь исполосована. Гордился: ни единой царапины на спине. От врага не бегал. А вот грамоты никакой. Что писать, что читать — пусть другие. Политесу знать не знал, да и учиться не хотел. Мое, говаривал, дело в бою. Командование над лейб-гусарами, а там и над казачьими командами с охотой принял. В казармах дни и ночи пропадал. Дом, что для Васильчикова отделывался, к нему перешел. Не очень-то и благодарил: мол, что мне в нем. Речей амурных отродясь не слыхивал, зато…
Испугался папа. Начал недостатки у дикаря выискивать. Там слово скажет, там крючочек закинет. Дикарь дикарь, а понял, откуда ветер дует. На папу при всех кинулся. Уж на что папа силен, а противу серба не устоял. Еле разняли.
Жаль было расставаться, но делать нечего. Придумала вояж ему заграничный. Для образования. Сам понял: не житье ему во дворце. Согласился. С миром уехал. Пенсион высокий получил, семь тысяч душ крестьян на отходную.
Прощальной аудиенции давать не хотела: кто знает, что дикарю в голову вступит. Сам камер-лакеев раздвинул, гвардейцев. В убиральную вошел — слова не сказал. Поглядел, рукой махнул. Марью Саввишну с пола поднял, трижды расцеловал. Надо бы ему хоть слово вымолвить! Ждать не стал: дверь большую в антикамеру тихо-тихо притворил. К горлу подступило: не императрица выиграла — князь Григорий Александрович победу одержал. Большую победу. Не бывать второму Зоричу. Не бывать…
К лучшему. Или — к худшему. Время покажет. Над суевериями смеялась. Какие приметы? Для образованного человека? Но что-то таилось в белых ночах. Во время них приходили и уходили близкие люди. Скажем, не близкие, пусть ненадолго входившие в твою жизнь. Завадовский… Дикарь… Пирр, царь Эпирский…
Почему придумалось такое имя? Царь, сражавшийся, побеждавший и никогда ничего не выигрывавший. Погибший в суматохе отступления, когда пришлось снять ненужную ему осаду Спарты. Злая ворожба? Григорий Александрович заторопился. С отъездом дикаря представил на выбор трех кандидатов в флигель-адъютанты. Велел явиться всем троим. Выстроиться в антикамере. Предупредил: Бергман — лифляндец, Ронцов — побочный сын графа Воронцова, Римский-Корсаков — кажется, прямо явившийся от французского двора. Поговорила для порядка с каждым. Одарила улыбкой. Дала приложиться к руке. Условный букет передала Корсакову: пусть отдаст Григорию Александровичу. Склонился в танцевальном поклоне. Взмахнул рукой. Прижал букет к сердцу: «Ваше величество, меня коснулся луч ярчайший, чем солнечный. Это мгновение останется лучшим в моей жизни: вы подарили счастье…» Знал. Обо всем наперед знал. Не смутился. Не залился краской. Знал и то, чем одарила его натура: изяществом — не совершенством черт, непритязательной любезной болтовней — не умной беседой. И за отведенные ему природой рамки не переступал никогда. Пел — что твой соловей. Играл на скрипке. Менуэтов таких дворец не видывал. И никем не хотел казаться. Был собой. Только собой.
В Васильчиковском доме на Дворцовой площади — теперь он к нему перешел — библиотеку положил устроить. Преогромную. Чтоб никак не меньше дворцовой. Книгопродавца позвал, велел все шкафы книгами наполнить. Какими? Его дело, лишь бы по размерам стояли: внизу большие волюмы, чем выше, тем меньше. Словом, как у государыни. Книгопродавец смутился: так сразу не подберешь. Почему же? Вези все, что в лавке твоей есть. Там и увидишь, где чего не хватает. Не поверила. При случае сама Эпирского спросила. А как же, отвечал, иначе поступить было. Одной скрипкой дорожил. Строганов уверял: дивный инструмент. Редкостный. Может, потому и слушать его одного могла. От других скучать принималась. Так Гримму и писала[12], помнится, что все живописцы и скульпторы должны делать его своей моделью, поэты — воспевать дивную красоту. Четверть века разницы — Гри. Гри. не удержался заметить. Не императрице — другим говорил. Четверть века? Нет, глупости. Первый раз юность почувствовала. Легкость, которой не знала. Будто крылья развернулись, зашелестели, от земли оторвали. Не ночей — вечеров как счастья ждала. Все балы сократила. Все приемы. Лишь бы скорее. Лишь с глазу на глаз остаться. В глаза яркие, веселые заглядеться.
И ни разу по имени не назвал. Все только «ваше величество». Перед «вашим величеством» склонялся, «вашему величеству» угодить хотел.
Первый раз платок из рукава обронил. Крошечный. Кружевной. Вензелем меченый графским. Вензелем… Не его. И духи словно бы узнала. Заметил. Смутился. Подымать не стал — мимо пошел. Заговорил, заговорил…
На потерю указала — отрекся. Камер-лакею велела поднять. Буквы вензеловые: П. А. Что гадать: Прасковья Александровна. Брюсша. Якова Александровича супруга. Ровесница. Те же четверть века ни ему, ни ей не помешали. Не стерпела. Объяснений не приняла. Вон! Тотчас вон! Чтобы на глаза не попадался! В поместья! В Москву! И собираться не стал. Как был из Васильчиковского дома вышел и в карету дорожную. Октябрь стоял. Еще снег не ложился. Осень теплая. Царское село все в золоте. Небо синее — хоть зажмурься. Только не один уехал. Вслед за ним другая коляска понеслась. Графиня Строганова Екатерина Петровна. Из Трубецких. Недавно с супругом Александром Сергеевичем из Парижа, возвратились. Блистали там. Она Фернейского патриарха все обольщала. Старая обезьяна сколько раз повторяла: «Ах, мадам, какой прекрасный у нас день — я видел солнце и вас!» Сына графиня в Париже родила. А голову от царя Эпирского с первого взгляда потеряла. Посмеивались все, а оно вот до чего дошло. Мужа бросила. Без развода за Иваном Николаевичем умчалась. В доме его московском жить решилась как метресска последняя. Можно бы приструнить. К порядку призвать. Наказать, и жестоко. Александр Сергеевич умолил не заметить. Стыда боялся. Оно и к лучшему. Если со стороны. А так… Полгода справиться с собой не могла. Сколько ночей бессонных… Сколько мыслей… Пятьдесят лет — может, и конец женскому счастью. Может, все позади осталось. Могущественная императрица. Афина. А ночи? Как с ночами-то быть — без звука, без шороха? Как?