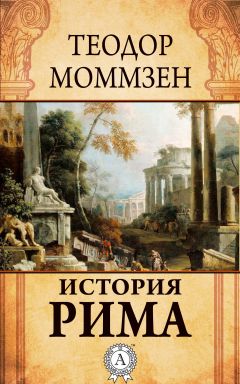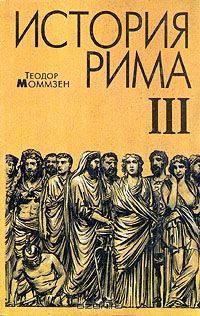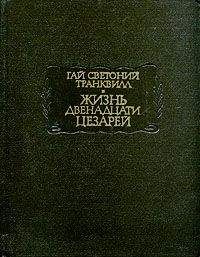Естественно, что тётя Юлия, моя мама и другие члены нашей семьи были шокированы его поведением в это время. Но им ещё предстояло перенести куда больший шок, прежде чем он умер. Я также не мог не чувствовать разочарования, когда обнаружил, что мой идол вовсе не такой, каким я себе его представлял. И всё-таки я мог видеть и восхищаться его истинными качествами. Я краснел от обиды за него, замечая, что люди смеются над ним, когда он ковылял, а не шёл к атлетической площадке. Даже в пожилом возрасте он часто присоединялся к молодым людям в их упражнениях на поле Марса[39]. Мне бывало приятно, когда смех переходил в выражение удивления, как только он брал в руки копьё или меч и совершенно преображался. Суровое выражение на лице, таким искренним оно становилось, делало его даже красивым. Его огромные конечности приобретали необычайную лёгкость и силу, и он без труда справлялся с оружием. Ноги, казалось неспособные ему служить, напрягались в действии, придавая ему устойчивость скалы, и обретали свою, отдельную красоту, хотя одна из них была покрыта узлами и наростами, как ствол старого дерева, а другая была вся помечена следами работы хирургического ножа.
Я заметил в своём дяде качество, которое можно назвать, хотя и в довольно необычном смысле, гуманизмом. Эта была скорее человечность крови, кости, мужества, некая верность, преданность реалиям жизни, нежели человечность, которую мы ассоциируем с какими-либо интеллектуальными и моральными высотами. Действительно, со многих точек зрения Мария можно было назвать злобным и глупым, но в его простоте (опять-таки здесь имеется в виду не моральная категория, потому что он был хитёр и мстителен) и силе, казалось, было что-то мудрое. Я помню, что он часто останавливался на улице, чтобы сказать пару слов своему старому солдату, которого узнал в толпе, но который сам не отваживался подойти к своему главнокомандующему. Слова Мария редко были особенно любезны, а его поведение было сродни поведению эксгибициониста. Ему нравилось, например, показывать свои раны, одновременно замечая, что это лучшее доказательство благородства, нежели собрание семейных портретов. Всё-таки что бы он ни говорил и как бы ни вёл себя, для тех, кто с ним служил, он оставался объектом почти фанатичного и личного обожания. Человек, которому он сказал бы какую-нибудь грубоватую фразу на улице, запомнил бы этот случай (это было видно по его лицу) на всю жизнь и стал бы год за годом, приукрашивая, описывать его своим друзьям, родственникам, жене, детям и внукам.
Я и сам разделял эти чувства, а позже мог их возбуждать в других. Поэтому я был благодарен, когда в конце моего детства Марий начал показывать, что он не только преодолел своё первоначальное отвращение ко мне, но и в самом деле заинтересовался моим будущим. Я могу объяснить подобные изменения в его отношении тем, что он однажды увидел, как я демонстрирую своё искусство наездника матери и нескольким друзьям, — даже в столь раннем возрасте я легко справлялся с лошадьми. Я развлекался, скача то в галоп, то карьером, с руками за спиной, показывая тот стиль езды, который, как мне говорили, использовали некоторые племена германцев и галлов. Воины этих племён могут сражаться не только на конях, но и пешими, и потому они умели на полном скаку оседлать коня и соскочить с него. Похоже, что Марий совершенно случайно стал свидетелем этой моей демонстрации ловкости наездника, и она произвела на него сильное впечатление. Он был изумлён, обнаружив, что мальчик с моей внешностью способен на такие атлетические доблести, особенно вспомнив, что я преуспеваю в греческом. Сам он теперь приближался к последнему, наиболее необузданному периоду своей карьеры, но в свои последние годы он пожаловал меня несколькими знаками внимания. В самом деле, это было время, когда казалось, что я могу войти в политику при самых благоприятных обстоятельствах. Как показали события, это было не так. Вскоре лучшие люди Рима, включая Коттов, отвернулись от Мария, а знаки его внимания едва не стоили мне жизни.
Всё-таки мне больше нравится помнить в Марии то, что делало его великим, нежели то, что было жестоким, грубым и диким. Марий не был идолом для ребёнка, но всё-таки его грандиозная тень царила над моим детством. Иногда я задумывался над тем, возможно ли, чтобы в одном человеке соединялись атлетические доблести и совершенно иные качества: культура, умеренность, политическая честность — те, которыми я восхищался в семье моей матери. И до сих пор у меня сомнения, существует ли в наше время такая возможность, если человек при этом хочет сохранить свою жизнь.
Всю жизнь за мою революционную деятельность меня либо обвиняли, либо восхищались мной. Часто забывают, что это не я начал революцию в Риме. Она началась ещё до того, как я родился, и в те годы, когда складывался мой характер, в годы детства и юности, день за днём моё внимание привлекали насилие, жестокость, абсолютно непримиримые противоречия, существовавшие в Риме. Эти противоречия в значительной степени нашли отражение в фигурах моего дяди Мария и его врага Суллы. Только постепенно начал я понимать истинную природу самих противоречий. В детстве на меня производили впечатление сами личности, и, руководствуясь верностью семейным узам, инстинктом и даже в некоторой степени привязанностью, я был целиком на стороне Мария. Позже я осознал, что мой выбор, если вообще можно делать выбор между двумя крайностями, был верен, поскольку Марий, несмотря на свои огромные недостатки, представлял силы более значительные, чем он сам, силы плоти и крови, чего-то, способного жить, развиваться и войти в историю, в то время как в Сулле не было жизни. Его гордость и амбиции происходили от ледяного и глубокого эгоизма, перед которым тщеславие, хвастовство Мария выглядели почти как щедрость. Сулла представлял силы ограничения и окостенения.
Мне было лет девять-десять, когда я впервые встретился с Суллой, но, конечно, я много слышал о нём до этого. Как я ни любил слушать рассказы о карьере моего дяди Мария, должен признаться, мне часто надоедали бесконечные повторения о происходивших ещё до моего рождения событиях, в которых был замешан Сулла. В то время Сулла был квестором и служил под командованием Мария в Африке. Он уже тогда выказывал большие способности и во время войны явил их. С помощью хитрой дипломатической уловки ему удалось добиться капитуляции местного царя Югурты, который на протяжении нескольких лет успешно сражался с Римом. Пленение царя означало конец войны, и Югурту выставили напоказ во время заслуженного триумфа Мария, который состоялся незадолго до ещё более важного похода против германцев. Тем временем Сулла и его друзья распространяли слухи о том, что Марий несправедливо присвоил себе заслугу окончания войны в Африке. По их словам получалось, что основную часть работы осуществил старый командующий Метелл, а решающий шаг был сделан Суллой. В рассказе была доля правды, но лишь небольшая. В любом случае военная репутация Мария была достаточно прочной, чтобы выдержать любые нападки на неё. Великодушный или просто разумный человек не обратил бы внимания на такие рассказы, но Марий, когда речь шла о его собственной славе, не был ни великодушным, ни благоразумным. Он возненавидел Суллу всеми фибрами своей души, а Сулла, будучи человеком более уравновешенным, с демонстративным презрением, доводившим Мария до бешенства, ненавидел его в ответ. К тому времени, когда я стал юношей, эта ненависть с обеих сторон стала навязчивой идеей. Конечно, я был склонен придерживаться стороны моего дяди и радовался тому, что члены семьи моей матери тоже мало хорошего могли сказать о Сулле. Они справедливо не доверяли ему как нечистоплотному реакционному политику, и их оскорбляла его личная жизнь. Они критиковали и осуждали его за то, что он был выскочкой, хотя на самом деле он происходил из старого, хотя и разорившегося, патрицианского рода, и обвиняли его в том, что он вышел в свет благодаря нечистым делишкам, таким, как ухаживание за богатыми и очень непривлекательными старухами ради того, чтобы получить от них наследство, когда они умрут.
Последнее обвинение, как я выяснил позже, было необоснованным. Впрочем, не мне осуждать кого-либо за то, что ему пришлось занять денег или получить их в обмен на какую-то услугу, чтобы приобрести влияние или власть. Сулла, несмотря на своё аристократическое происхождение, начинал свою жизнь в нищете, но он понимал, что значит родовитость, и предпринял вполне разумные шаги для того, чтобы обеспечить себе свободу действий. Его нельзя винить за то, что он охмурил парочку богатых вдов. Его расточительные удовольствия в целом не были необычными или совершенно возмутительными. Что было неприятно, так это противоречия между ними и тем, каким представляли самого Суллу. Марий в своей грубости, пьянстве, в своей странной щедрости, великодушии и чёрствости оставался целостным. В Сулле, казалось, уживались по крайней мере два человека. В любом его деле чувствовалась рука мастера. Он мог быть безжалостным и суровым во всём (кроме случаев, когда сам поощрял распущенность). Был культурен и начитан, тем не менее, когда он давал волю чувствам в личной жизни, то становился почти комично любезным. Его любимыми компаньонами были не аристократы или образованные люди, а наиболее сомнительные личности: певцы, танцоры или музыканты. К одному из этих музыкантов, мужчине по имени Метробий, он испытывал сильную страсть, которая продолжалась много лет. Его любовные приключения, по общему мнению, были весьма многочисленны. Он вступал в связи с людьми, принадлежащими к разным классам, хотя в основном его интересовали представители низших слоёв населения, и не делал различия между мужчинами и женщинами. Марий, считавший, что излишества, которые он позволяет себе, абсолютно нормальны, говорил с ужасом и презрением об образе жизни Суллы.