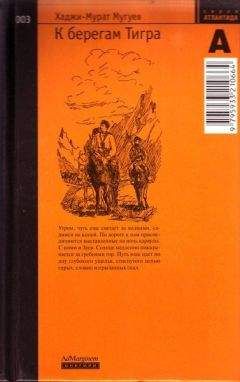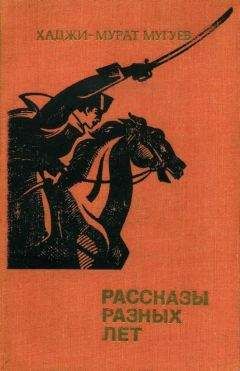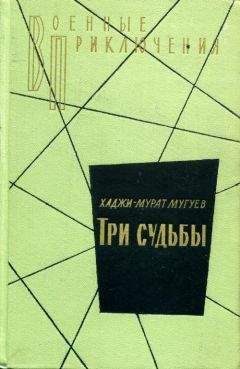— Пити! Местное блюдо. Я научился готовить его, — с гордостью объявляет бывший акцизный.
Мы одобряем его искусство. Гамалий сияет: ни один казак не отстал, кони, несмотря на трудный горный переход, здоровы, нет ни одной набитой спины, настроение у людей бодрое. Словом, пока все идет как по маслу.
— Еще бы стаканчик чайкю, — благодушно говорит есаул, выпивший уже не менее пяти стаканов.
Сестры гостеприимно потчуют нас. Зуев и Химич лениво любезничают с ними. Самой молодой из этих обольстительниц не менее сорока лет, самой пожилой — под пятьдесят, но, тем не менее, здесь, на этом заброшенном пункте, они, как видно, пользуются не малым успехом. Помимо наших прапорщиков, около них увиваются драгунский корнет и пара застрявших на день проезжих земгусаров[18]. Эти последние выглядят по-опереточному ярко на фоне боевого, прошедшего окопные и походные мытарства офицерства. Невольно мне вспоминается сочиненная недавно где-то на фронте песенка об этой специфической фауне войны:
С биноклем, шашкой, револьвером,
Алла-верды, алла-верды,
Казался каждый офицером,
Алла-верды, алла-верды,
Расшили золотом погоны,
Алла-верды, алла-верды,
Пусть трусы носят цвет зеленый,
Алла-верды, алла-верды…
Сестры довольны. Нам же от долгой тряски, сытного обеда и коньяка хочется спать. Словно угадывая мою мысль, Гамалий говорит:
— А не соснуть ли нам часок?
— Когда же тронемся дальше? — спрашиваю я.
— Вечером, часов в пять.
— Добре!
Мы идем в маленькую прохладную комнату и заваливаемся спать на железных койках, покрытых соломенными солдатскими тюфяками.
Снова в пути. Отдохнувшие кони идут крупным, бодрым шагом. Иногда сзади слышатся голоса: «Повод вправо!» Это нас обгоняют маленькие форды и тяжелые мерседесы. Тучи пыли, как завесы, вздымаются за ними. Часто навстречу попадаются двуколки, арбы, грузовики. Бредут пешеходы. Робкие персы спешат свернуть с дороги. Их способ передвижения прост и оригинален: три-четыре человека бегут за ишаком, сменяя по очереди трясущегося на нем всадника. Седло заменяет кусок войлока, а плеть — острое шило, которым седок время от времени покалывает круп упрямого животного.
— Давай наперегонки! Ты на ишаке, а я пешком! — кричит Востриков непонимающему и робко улыбающемуся персу.
Казаки смеются. Однообразие пути утомляет их, и они рады всякому случаю, отвлекающему их от монотонного, скучного покачивания в седле. Так проходит час, два… четыре.
На пути вырастает еще один пункт — такой же, как и в Маньяне, только с тою лишь разницей, что комендантом здесь молодой безусый прапорщик-инвалид, а вместо сестер — угреватый фельдшер. Пьем чай, звоним на Аб-Герм. Это следующий пункт, где предстоит ночевка. Просим приготовить обед и закупить фураж для лошадей. Прощаемся — и снова в седле.
Вечер незаметно сходит с темных вершин Асад-Абада и быстро нагоняет нас. Равнина погружается в молчание. За горизонтом погасает солнце и озаряет нас своими багровыми прощальными лучами.
В сгущающемся мраке показываются огоньки. Это Аб-Герм. Подходим, спешиваемся, располагаемся на ночь у дороги, на мягкой и густой траве. Казаки расседлывают и развьючивают коней. Они с увлечением растирают им спины жесткими щетками и чистят скребницами их запыленные ноги и животы. Через полчаса, напившись воды, кони с хрустом жуют сочный ячмень.
Пузанков разбивает походную кровать и стелет постель, но я решаю пройти на пункт. Мне, несмотря на усталость, интересно взглянуть на обитателей Аб-Герма. Большая светлая комната. За столом Гамалий, комендант, несколько пехотных офицеров и человек пять сестер. На столе — коньяк, вино, закуски и неизменный шоколад есаула. Взоры сидящих останавливаются на мне.
— Мой старший офицер, сотник Н., — представляет меня командир.
Я жму с десяток протянутых рук и присаживаюсь к столу. Напротив меня сидит хорошенькая сестра с большими черными глазами. Она с любопытством разглядывает меня. На груди у нее рядом с большим красным крестом синеет маленький эмалированный ромб! Ого! Университетский значок! Это меня интригует. Я завязываю разговор. Через пять минут мы болтаем как старые знакомые. Оказывается, мое лицо очень напоминает ей лицо одного студента-технолога, с которым она когда-то ехала в поезде где-то между Варшавой и Минском. При этом воспоминании она смеется, показывая ряд мелких, ослепительно белых зубов. Зовут ее Ириной Петровной, она практикант-химик, окончила в этом году Харьковский университет и теперь работает здесь, при пункте, лаборанткой. За столом шумно, но мы не обращаем ни на кого внимания, занятые своими, исключительно своими разговорами.
Ой, казала мени маты,
Та приказувала,
Щоб я хлопцив у садочок
Не приважувала.
Ой, мамо, мамо, мамо,
не приважувала… —
раздается невдалеке, за дорогой. Это сотенные певцы вместе с доморощенным регентом, урядником Сухоруком, вспоминая станицу, поют родную, вывезенную дедами с Украины песню.
Мелодия трогает сидящую компанию. Звуки то растут, то затихают и льются волной в раскрытые окна пункта.
— Как хорошо, как чудесно! — тихо говорит, мечтательно глядя в черную ночь, Ирина Петровна.
В самом деле, казаки поют отлично. Они умеют несложными мелодиями дедовских песен вызывать глубоко западающую в душу сладкую грусть.
— Выйдем на воздух, — предлагаю я. Мы поднялись и прошли во двор.
Луна бродила по облачному небу, проваливаясь в белесые хлопья облаков и так же внезапно выныривая вновь. Ее неровный свет падал на долину, на притаившийся пункт и на поющих казаков. Мы подошли ближе к ним. Кончив песню, Сухорук обратился к моей соседке:
— Послухать прийшлы, сестриця?
— Да, уж больно вы хорошо поете, прямо прелесть! — похвалила моя спутница. — Вы бы, голубчик, еще спели что-нибудь.
— Это можно. Какую прикажете, вашбродь? — обратился он ко мне.
— Какую хочешь. Только, Сухорук, смотри не пой до конца, а то напугаешь доктора, — указывая на Ирину Петровну, сказал я.
— Не извольте беспокоиться, вашбродь, не подгадим. А я думал, что вы сестрица, — улыбнулся он, глядя на лаборантку. — Больно не похожи на докториц-то.
Ирина Петровна весело и звонко смеется.
— Почему же? Почему не похожа?
— Да как сказать… Больно молодые и красивые. А докториця, по-нашему, извиняюсь, должны быть старые да и лицом как бы не вышедши.
Хохот казаков слился со звонким смехом «докторици».
Сухорук польщен. Ирина Петровна жмет ему руку и благодарит за забавный и приятный комплимент.
Казаки запевают старинную песню об Иване Грозном и буйном Тереке. Они поют вдумчиво и вдохновенно. Давно прошедшей вольностью и удалой жизнью казацких ватаг веет от этой древней песни. Мы взволнованно слушаем ее. Наконец певцы смолкают.
Мы идем дальше. Нам вслед несутся дробные, частые звуки разудалой плясовой песни, слышатся лихие «ухи» и «охи» пляшущих трепака казаков. Хор заливается, быстро перебирая и прищелкивая:
Скыну кожух да палыцю,
Сама пиду на улыцю.
Хай кожух валяется,
За мной хлопци гоняются…
— Какие они милые, хорошие, — говорит Ирина Петровна, — ласковые, простые люди. Ведь я раньше вовсе не знала их. Вы первые казаки, с которыми мне приходится встретиться так близко.
Гуляем по шоссе. Отошли уже довольно далеко. Огоньки Аб-Герма остались позади, песня и гиканье неясно долетают до нас. Мне невыразимо уютно и тепло с этой милой, простой и умной женщиной. Говорим о стихах Блока. Она декламирует «Незнакомку» и, не закончив, переходит к последней строфе «На железной дороге»:
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена… все больно.
Голос Ирины Петровны звучит проникновенно и задушевно. Мы молча проходим еще несколько шагов. Мне радостно идти с нею, хочется молчать и слушать ее нежный, мелодичный голос. Ничего дурного, ничего пошлого. Только чувство разделенного одиночества сближает нас. Я понимаю ее состояние. На далеком, заброшенном этапе, среди сотен проходящих мужчин, интеллигентная, с богатым духовным миром женщина тоскует о жизни, к которой она привыкла. Город, общество, любимая наука, книги, театр. Как от всего этого далеки темные, окружающие Аб-Герм, холмы!
— Вы тоскуете здесь? — спрашиваю я.
— Вообще да, но два обстоятельства заставляют забывать о скуке — работа и чувство долга. Народ так мучается, так страдает на этой войне, что нам, тыловикам, стыдно думать о себе.
Признаюсь, я не ожидал такого ответа. Мне казалось, что я услышу от нее горькие жалобы на забросившую ее в эту глушь судьбу.