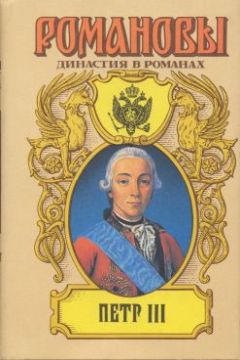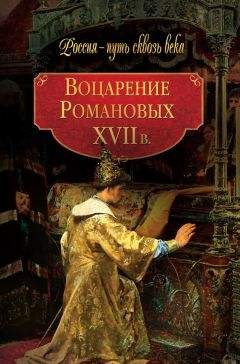– О, конечно, мадемуазель, конечно! – сказал Бломштедт. – я буду счастлив говорить с вами на моём родном языке, и счастлив вдвойне, – добавил он, снова целуя её руку, – что буду слышать родные звуки, произносимые такими красивыми устами, как ваши.
Эти слова могли сойти за простой комплимент и даже, быть может, не свидетельствовать об особом уме и утончённости сказавшего их, но волнение, с которым молодой человек произнёс их, его блестящие глаза и страстное восхищение, звучавшее в его голосе, вполне удовлетворили красавицу танцовщицу; она поблагодарила его с такой обольстительной улыбкой, словно он сказал остроумную любезность. При этом она подвинулась к нему ещё ближе, не переходя, впрочем, границы самой приличной сдержанности. Её рука лежала на его руке, их плечи слегка соприкасались, и когда она взглянула на барона, он почувствовал её жгучий взор и горячее, благоухающее дыхание обдало его щёки. Огненный поток распространился по жилам молодого человека; его кровь начала кипеть, и все чувства восприяли одурманивающее влияние такого прекрасного и оригинально-увлекательного существа, окружившего его почти ошеломляющей атмосферой любви и жизнерадостности.
Но прежде чем они успели продолжить свой разговор, дверь с шумом отворилась и в комнату ворвался человек лет сорока, в чёрном костюме, с бледным, благородным, одухотворённым лицом и тёмными, зачёсанными назад волосами; его глаза блестели от возбуждения. Это был директор императорской труппы Фёдор Григорьевич Волков. Актёры, испуганные его волнением, бросились к нему навстречу; молодые актрисы покинули свои небрежные позы и слегка приподнялись со своих кресел.
– Скорей! Скорей! – воскликнул Волков – Приготовьте всё! Я только что получил приказ дать сегодня вечером представление во дворце, и вы все должны участвовать. Императрица велела сыграть пред ней «Хорева» Сумарокова… Нам понадобится весь балет… Я жду от вас, что вы приложите все силы, так как мы уже давно не играли этой пьесы, и всё-таки всё должно быть в порядке, так как императрица велела мне непременно передать, что ожидает образцового исполнения и особенно блестящей постановки шествий и национальных танцев.
Ещё недавно скучающее, сонно-равнодушное общество при словах своего директора вдруг напомнило собой потревоженный улей; все повскакали со своих мест, все спешили куда-то, не зная, что предпринять. Только Томазини оставалась в углу на своём диване. Хотя и её глаза заблистали ещё ярче при известии, что в этот же вечер должно состояться представление, в котором она может показать пред двором своё искусство, она, казалось, не могла решиться отпустить от себя молодого человека, которого только что впрягла в свою триумфальную колесницу; она не отнимала от него своей руки и её белое плечо не отстранялось от его плеча, на которое она опиралась.
– Поздравляю вас, – сказал Евреинов, – со счастливым избавлением от вашего бездействия, и радуюсь, – добавил он громким голосом, отыскивая глазами барона Бломштедта, – этому приказу о представлении ещё более потому, что он служит доказательством, что наша всемилостивейшая государыня чувствует себя совсем хорошо. Пойду скорей принести вам подкрепление.
– Не разбегайтесь! – крикнул Волков, когда Евреинов уходил. – Это ничему не поможет… не надо терять ни минуты… Мы должны сделать ещё одну репетицию, прежде чем начнётся представление… Сани стоят пред дверьми, я отправил рассыльных за хором и статистами… гвардейский батальон отдан в наше распоряжение… гардеробмейстер приготовляет всё… Итак, живо вперёд, во дворец!
Барон фон Бломштедт глубоко вздохнул.
– Во дворец! – сказал он вполголоса, обращаясь к своей прекрасной соседке. – Как вы счастливы, что можете ехать туда! Я охотно посмотрел бы на этот двор и на знатных вельмож, но для иностранца доступ туда крайне труден, а потом, – добавил он глухим голосом, причём его пальцы крепко обвились вокруг маленькой, хорошенькой ручки, словно он не хотел выпустить её, – вы все будете заняты и не придёте сюда, где мы могли бы так хорошо беседовать друг с другом.
Мариетта задумчиво, с задорной улыбкой на губах, некоторое время смотрела на него, а затем быстро встала, схватила молодого человека за руку и подвела его к Волкову, нетерпеливо разговаривавшему с некоторыми из актёров и пытавшемуся устранить недовольство последних, обычное почти всюду при неожиданных спектаклях, которое не мог подавить даже приказ самой государыни.
– Уважаемый маэстро, – сказала Мариетта по-французски, я буду танцевать сегодня вечером, отлично танцевать; обещаю вам, что все будут довольны… что я говорю – «довольны»! Все будут в восторге от моих танцев; но при одном условии…
– Условия? Для государыни императрицы? – пожимая плечами, спросил Волков, видимо недовольный.
– Государыня императрица – женщина, – возразила Томазини, – и знает, что значит желание женщины; кроме того, я ставлю это условие только вам, и его легко исполнить. Вот этот господин – барон фон Бломштедт, мой соотечественник и друг, – прибавила она со взглядом, заставившим сердце барона забиться сильнее. – Он желает посмотреть двор и высшую знать, которой он ещё не представлен, и я хочу доставить ему это удовольствие.
Бломштедт глядел удивлённым взором на танцовщицу, говорившую в таком лёгком тоне о вещи, которую Евреинов представил ему такой труднодостижимой.
– Мы возьмём его с собой, – продолжала Мариетта, – с нами вместе его беспрепятственно и не допрашивая впустят в Зимний дворец; там он оденется в костюм старого русского мужика, займёт место в одной из сцен, где не требуется особого танцевального искусства, и таким образом увидит со сцены сановников и весь двор, гораздо лучше и яснее, чем в набитых битком залах во время большого раута. А я, – тихо прибавила она, перегибаясь к Бломштедту, – буду иметь удовольствие насладиться подольше обществом моего друга и назвать ему всех высоких придворных сановников и дам.
Барон, весь дрожа от радости, смотрел на Волкова, который, ответив на его поклон, стоял в нерешимости.
– Это – дурачество, – произнёс он, – если государыня императрица узнает это, она может разгневаться.
– Ба! – воскликнула Томазини. – Разве она знает в лицо всех статистов и хористов? А если бы она и узнала, то что худого она найдёт тут?
– В самом деле, – согласился Волков, – вряд ли возможно, чтобы она открыла это, а кроме того, по существу же ведь это, выходит, – совсем невинная шутка.
– Прежде всего это – моё желание, – воскликнула Томазини, – так как я хочу провести сегодняшний вечер в обществе своего соотечественника; если это мне не удастся, я – ни ногой из дома.
– У вас хватит на это упрямства, – заметил Волков, – но так как условие не ахти какое, то да будет так, как вы хотите. Поезжайте с нами, государь мой; я зачислю вас в выход, во время которого вам не придётся ровно ничего делать, кроме расхаживания вместе с прочими по сцене; но я попрошу вас на всякий случай держаться подальше от рампы и прятаться за других. Ну а теперь вперёд, вперёд! Садиться в сани!
Все направились к дверям, но тут показался Евреинов с корзинкой шампанского; сопровождавший его лакей хлопнул пробкой, и все наполнили бокалы.
– За здоровье нашей всемилостивейшей государыни императрицы! – крикнул хозяин.
Каждый из присутствовавших поспешно чокался с ним и бросался к двери, чтобы садиться в стоящие уже наготове сани.
Когда Бломштедт, сияя, подошёл к Евреинову, держа под руку танцовщицу, хозяин в ужасе воскликнул:
– Как – и вы едете, государь мой?
– Да, – подтвердил Бломштедт, – я еду; я увижу двор скорее, чем думал; я буду участвовать в спектакле статистом! – и, не дожидаясь ответа, он повёл прильнувшую к нему Мариетту к выходу.
– Мне не удержать его, – произнёс Евреинов, задумчиво смотря вслед молодому человеку, – это – сумасшествие. Мне было бы жаль, если бы это привело к катастрофе!.. Но больше нечего делать, я не могу выказывать столько участия к нему под столькими взглядами.
Он приказал лакеям убрать со стола в сразу опустевшем зале и вернулся в общий зал, чтобы поглядеть за тем, как служат его гостям.
Труппа актёров, пришедшая вследствие приказа государыни снова в своё обычное радужное настроение, подъехала, сани за санями, к одному из боковых подъездов Зимнего дворца; эта пёстрая, весело болтающая компания производила удивительное впечатление при проходе через тихие, пустынные коридоры мимо молчаливых часовых, по направлению к отведённым для спектакля залам.
Молодой барон фон Бломштедт был во власти удивительного, охватившего всё его существо возбуждения; уже его остановка в Берлине заставила разом отступить в сумерки прошлого всю его тихую пору юношества и родные картины дюн; даже воспоминания о его детских играх, которые до сих нор всецело наполняли его сердце, подёрнулись теперь лёгкой дымкой забвения; настолько возбуждали в нём жажду жизни заманчиво улыбающиеся губы и пламенные взгляды красивой танцовщицы; голос молодой, горячей крови заглушил все чувства, господствовавшие до сих пор над его душой, и заставил побледнеть пред данной минутой и прошлое, и будущее.