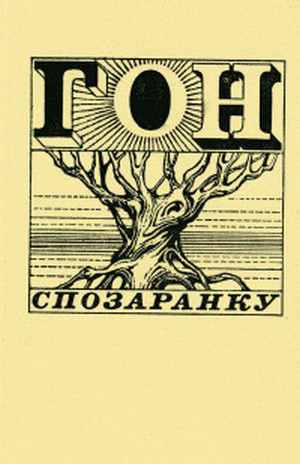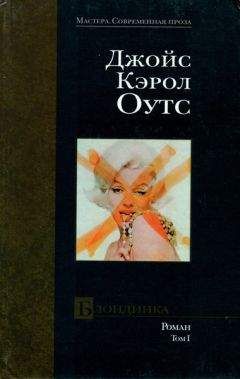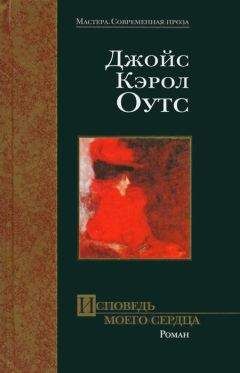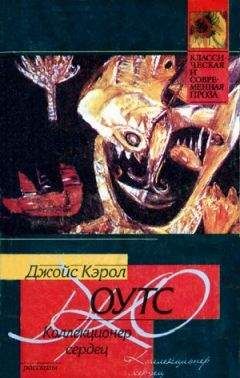не играл. В день, когда Норочий ручей вышел из берегов, давясь тающим в горах снегом, так что воды в ручье стало больше, чем во всех остальных ручьях, впадающих в Лейк-Нуар, Рафаэль сунул ноги в резиновые сапоги и вышел на улицу, щурясь от солнца и спрятав руки поглубже в карманы — хотя на дворе был апрель, почти весна, а суровая зима вроде как наконец закончилась. (Рассказывали, что высоко в горах целые каньоны и долины засыпаны снегом. Там, проглоченные ущельями, куда не добирается солнце, лежат серебристо-синие ледники, которые, возможно, никогда не растают, и настанет новый Ледниковый период — и что тогда? Тогда Бельфлёрам придется разъезжать в санях, как в стародавние времена, или ходить повсюду в снегоступах, как старый Иедидия? Будут ли тогда учителя жить прямо в усадьбе, поближе к детям, или образование вообще отменят?) Однако снег всё же таял, ручьи выходили из берегов, теплый летний дождь умывал томящиеся под снегом горы, превращая снег в воду, что, неистовствуя, устремлялась вниз сотнями потоков — Поток Лорела, Кровавый поток, Заячий, Колумбайн, — а те вливались в реки и ручьи, бегущие к озеру, оттуда дальше вниз, говорят, к самому океану — который, впрочем, находился на расстоянии сотен миль и дети его никогда не видели. Разглядывая в библиотеке красивый старинный глобус (такой большой, что даже длиннорукий Юэн, обхватив его, не мог сомкнуть пальцы), Рафаэль не находил на нем Лейк-Нуар, а при мысли о бесконечности океана у него кружилась голова.
— Чтобы осознать нечто настолько огромное, — говорил он кузену Вёрнону, — уйдет вся жизнь… Не дай мне Бог увидеть океан.
В более спокойное время года Норочий ручей превращался в широкую извилистую реку, где Бельфлёры поили лошадей, коров и овец. На возвышенностях ручей сужался, а на лугах снова раздавался вширь, виляя и образуя петли, нескончаемые загогулины. В одних местах он был совсем мелким, но кое-где глубина достигала двенадцати, а то и пятнадцати футов. Берега его заросли рогозом и осокой, ольхой и ивняком, и повсюду торчали выбеленные валуны — детям рассказывали, будто их набросал тут живший на вершине Маунт-Блан великан-забияка.
— Но когда это случилось? — спрашивали дети.
— О, сто лет назад, — слышали они в ответ.
— Но это было по правде? — не верили дети.
— Что это значит — по правде? Вон видите те валуны? Отправляйтесь туда и убедитесь сами!
Однажды утром Рафаэль в одиночестве вышел прогуляться — он решил отыскать истоки ручья. Его дядя Эмману эль (хотя над ним тоже потешались — уж Юэн с Гидеоном точно) славился среди местных жителей тем, что скрупулезно составлял подробные карты местных гор, на которых прорисовывал каждую реку, ручей, затон, протоку, пруд и озеро. Подолгу пропадая в горах — он не появлялся дома месяцев по восемь-девять, — Эммануэль был предметом восхищения всех детей, по крайней мере, всех мальчиков. Рафаэль решил было сбежать из дома и жить вместе с дядей где-нибудь в горах… Но, не пройдя и трех миль, он изнемог и бросил эту затею. Устье ручья и почти весь берег вокруг были завалены камнями и комьями глины, упавшими деревьями и гниющими бревнами, изрезаны причудливыми бухточками и залиты пеной. Здесь встречались водопады высотой до десяти футов, чьи брызги ослепляли и обжигали холодом. По подсчетам самого Рафаэля, он поднялся в горы всего на несколько сотен футов, но уже совсем выдохся. Лицо, исхлестанное ивовыми ветками, горело, рев водопада болью отдавался в ушах, над головой сердито кружили осы, он испугал — точнее, его напугала пригревшаяся на бревне ошейниковая змея (однажды Гарт, его брат, ликуя, притащил домой двенадцатифутовую змею, обмотав ее, словно шарф, вокруг шеи), а сняв сапог, чтобы потереть ноющую ногу, Рафаэль увидел между пальцами с полдюжины пиявок, впившихся в бледную кожу. Мерзкие уродливые твари, они высасывают из него кровь… Как глубоко вгрызаются они в его плоть! Увидев их, Рафаэль едва голову не потерял от страха и завопил, точно ребенок. Когда он вернулся домой, напеченная солнцем голова гудела и каждая клеточка его тщедушного тела дрожала от напряжения.
— Зачем Господь создал кровососов? — спросил Рафаэль свою старшую сестру Иоланду. — Разве Он не понимал, что творит?
Иоланда, красотка Иоланда, источающая нежный аромат, с надушенным, заправленным за пояс кружевным платочком, даже не взглянула на брата. Занятая собственным отражением в зеркале, она расчесывала длинные волосы: их темно-русые, светлые и золотисто-каштановые пряди, к ее раздражению, рассыпались по плечам колечками.
— Что за ребячество, Рафаэль, — безучастно бросила она, — ты же знаешь — никакого Бога в небесах нет, а Дьявол не сидит на троне в аду.
На следующее утро на уроке Рафаэль задал тот же вопрос Демуту Ходжу. Мистер Ходж, которого вскоре попросят покинут усадьбу (он так и не понял, собственно, почему: он-то полагал, что вполне успешно обучает детей латыни, греческому, английскому, математике, истории, литературе, сочинению, географии и «фундаментальным наукам», учитывая, что бельфлёровские отпрыски радикально отличались как по познаниям и интересам, так и по усидчивости), забормотал что-то о том, что его положение учителя не позволяет ему обсуждать с детьми религиозные темы.
— Тебе, вероятно, известно, что твои родственники расходятся во мнениях об этом предмете — часть из них верующие, другие нет, и обе стороны с равной нетерпимостью относятся к мнению, не совпадающему с их собственным. Поэтому, боюсь, я не вправе ответить на твой вопрос — скажу лишь, что вопрос этот серьезный, возвышенный, и ответ на него ты, возможно, будешь искать всю жизнь…
Последним, к кому Рафаэль обратился, был дядя Верной — тот время от времени обучал детей «поэзии» и «ораторскому искусству». Как правило, происходило это в темные дождливые вечера, когда он был лишен возможности совершать свои прогулки по лесу. Однако Вёрнон высказался с исступленной убежденностью, смутившей его племянника.
— Говорю тебе — все создания хороши, в каждом из них Бог. А Бог, мой дорогой озадаченный мальчик, неотделим от Своих созданий.
В верхнем течении ручей был бурным, а озеро с его подводными течениями даже в спокойные дни отличалось коварством. Зато Норочий пруд был ласков и укромен, то был его собственный пруд. Других мальчиков он не интересовал. (Рыбы в нем не водилось, разве что совсем мелюзга, и даже лягушки его не жаловали.)