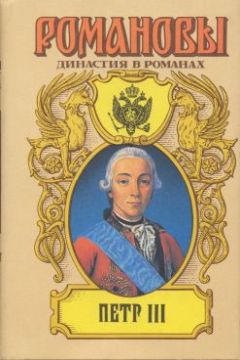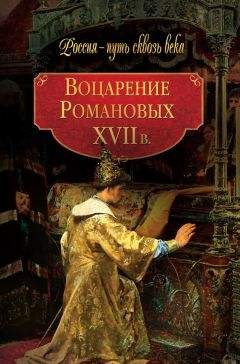На лестнице появился Алексей Орлов.
– Следуйте за мною! – крикнул он императору – Не бойтесь ничего, я проведу вас в безопасное место.
Он схватил руку Петра Фёдоровича; последний, пошатываясь и спотыкаясь на ступенях, позволил увлечь себя сквозь ряды гвардейцев, с громкими проклятиями грозивших ему кулаками.
Алексей Орлов ввёл императора в одну из комнат, где жили камеристки; эти помещения были расположены в коридоре, ближайшем ко входу.
Пётр Фёдорович не столько от холода, сколько от страха и волнения, дрожал так сильно, что его зубы стучали.
– Ведь меня не убьют? – сказал он, поднимая сложенные руки. – Императрица обещала мне быть милостивой.
– Не бойтесь ничего, – ободрил его Алексей Орлов, – государыня сдержит своё слово.
Он взял лежавший в комнате женский капот, набросил его на плечи государя, раздетого до рубашки, и удалился, причём затворил дверь, к которой были приставлены им для охраны два офицера.
Пётр Фёдорович упал на колена, бормоча дрожащими губами несвязные молитвы.
Четверть часа спустя к нему явился граф Панин. В руках у него были бювар[32] и письменные принадлежности. С торжественной важностью поклонился он императору, который испуганно вскочил при его появлении.
– Ведь меня не убьют? – воскликнул Пётр Фёдорович, хватая за руку Панина. – Не правда ли, Никита Иванович, ведь у тебя не поднимется рука на твоего императора? Ведь императрица сдержит данное мне слово?
С глубокой жалостью смотрел граф на дрожавшую пред ним и старчески опустившуюся фигуру Петра Фёдоровича, который ещё вчера был неограниченным властелином неизмеримой Российской империи.
– Государыня императрица Екатерина Алексеевна, – ответил он, – повинуясь своему долгу пред русским народом, приняла на себя управление империей; она никогда не позабудет, что кротость и милосердие составляют главную обязанность правителей, и не упустит из виду этой обязанности прежде всего в момент решения участи своего супруга, потомка славных русских царей. Вы, ваше императорское величество, можете быть уверены, что все ваши желания, поскольку то дозволяют требования государственного блага, будут уважены.
– А императрица отправит меня в Голштинию? – спросил Пётр Фёдорович. – О, я так стремлюсь назад в своё немецкое отечество, откуда силой увезли меня, чтобы заставить выстрадать здесь так много!
– Насчёт этого государыня императрица решит потом, – ответил Панин. – Во всяком случае, заточение, необходимое теперь ради безопасности особы вашего императорского величества, будет вполне соответствовать вашему сану.
Пётр Фёдорович вздохнул и спросил:
– А мне оставят моего Нарцисса, мою собаку и мою скрипку?
Печально улыбнувшись, взглянул граф Панин на несчастного, сломленного судьбою государя и ответил:
– Разумеется, я полагаю, что могу обещать вам это от имени государыни императрицы… Но прежде всего необходимо, чтобы вы, ваше императорское величество, сложили с себя управление государством и признали сами себя неспособным к нему и недостойным его, дабы лишить всякой почвы смуту, которую могли бы затеять враги государства, пожалуй, к вашей же собственной гибели.
Пётр Фёдорович внимательно вслушивался; на одно мгновение его глаза вспыхнули как будто вновь воскресшим мужеством.
– А если я не сделаю этого? – порывисто спросил он, но когда Панин вместо ответа лишь пожал плечами, то государь, не дав ему времени ответить, воскликнул: – Ну да… да, я согласен… я вижу, что это необходимо… Что же мне писать?
Панин вынул лист бумаги из своего бювара, поставил на стол письменный прибор и сказал:
– Прошу вас, ваше императорское величество, написать то, что я продиктую.
– Диктуйте! – отозвался Пётр Фёдорович.
Торопливо летала его дрожащая рука по бумаге, нетвёрдым почерком записывая то, что с расстановкой говорил ему Панин:
«В короткое время моего царствования над государством российским признал я, что мои силы недостаточны для подъятия такого бремени и что я не способен управлять империей не только самодержавно, но и ни при какой-либо иной форме государственного устройства… Я признал, что существующий государственный строй поколебался при моём управлении и должен был неминуемо рухнуть окончательно, что покрыло бы вечным позором моё имя. Во избежание сего, по зрелом размышлении, без всякого принуждения пред российским государством и пред лицом целого света объявляю, что отказываюсь до конца моей жизни от управления Российской империей, что я не желаю царствовать над народом русским ни как самодержец, ни как ограниченный монарх при какой-либо иной форме государственного устройства; что я навсегда отказываюсь от всякой затаённой мысли когда-либо вернуться снова к управлению. Клянусь пред Богом и пред целым светом, что это отречение от престола написано и подписано мною собственноручно».
Слеза выкатилась из глаз дрожавшего императора на бумагу и смыла последнее слово; затем он подписал своё имя под роковым документом, поднялся с места и, подавая Панину исписанный лист, вопросительно, с большим достоинством и твёрдостью, чем раньше, взглянул на него.
– Вот, Никита Иванович, всё кончено! – произнёс он. – Тот, кто вчера был императором, сегодня более нищ и убог, чем последний бездомный бедняк в России. Пусть императрица не забудет, что ей придётся со временем отдать Богу отчёт как в судьбе государства, так и в моей судьбе.
Глаза графа Панина также блеснули слезой. В невольном порыве он нагнулся к руке императора и поцеловал её, сказав:
– Ваше императорское величество, положитесь вполне на великодушие государыни императрицы.
После этого Панин поклонился ещё раз так же низко и церемониально, как если бы стоял пред ступенями трона, и вышел из комнаты.
Едва успел он скрыться, как явился Алексеи Орлов. Он принёс императору простой кафтан, фуражку и сказал:
– Прошу покорно следовать за мною. Государыня императрица приказала отвезти вас в Ропшинский дворец. Вы найдёте там всё нужное для своего удобства, и все ваши желания будут исполняться.
Пётр Фёдорович закутался в кафтан, надел фуражку и, поддерживаемый Алексеем Орловым, направился по боковому коридору к одному из внутренних дворов. Здесь стояла небольшая карета, запряжённая тройкой сильных лошадей, а возле неё эскадрон конных гренадёров.
Пётр Фёдорович сел в карету с Алексеем Орловым; она тронулась и покатила. Гренадёры, сопровождавшие её, окружали маленький экипаж таким тесным кольцом, что никто не мог заметить государя или приблизиться к нему на улице. Молча, забившись в угол, съёжившись и весь дрожа, ехал развенчанный император, тогда как по другую сторону Петергофского дворца громкое «ура» гвардейцев гремело в честь новой повелительницы. Он ехал навстречу неведомому, в свою уединённую тюрьму, куда попал прямо от великолепия и всемогущества царского трона, ни разу с мужественной решимостью не подняв даже руки ради своего спасения.
Тем временем фельдмаршал Миних, генерал Гудович и Бломштедт поднимались по широкой лестнице. Большая часть солдат почтительно отдавала честь фельдмаршалу, гордо проходившему мимо; раздавались даже возгласы симпатии по его адресу, но зато Бломштедта, бывшего в голштинском мундире, встречали проклятиями, и угрожающие взоры преследовали его, когда он, с бледным и грустным лицом, шёл между шеренгами войск, рядом с Минихом, ласково обнимавшим его за плечи. Они вошли в первую комнату, наполненную генералами, гвардейскими офицерами и придворными всех рангов и степеней. Все испуганно смотрели на фельдмаршала, захваченного вместе с низложенным императором; никто не решался поклониться ему, из боязни прогневить государыню, однако никто и не осмеливался быть грубым со старым полководцем, на суровом лице которого ярко, с юношеским задором, горели гордые глаза. Двадцатилетняя тяжёлая ссылка не научила Миниха робко гнуть спину из чувства страха. Всё то, чего мог ожидать для себя восьмидесятилетний старец, было бы сущими пустяками в сравнении с тем, что ему уже пришлось пережить и перестрадать.
Фельдмаршал не переставал обнимать Бломштедта, полный чувства сострадания к молодому человеку, стоявшему ещё на пороге жизни, для которого долголетнее заключение или ссылка были страшнее казни.
Дверь соседней комнаты была лишь притворена, и Миних, в сопровождении своих двух спутников, твёрдыми шагами вошёл в кабинет, где находилась императрица.
Екатерина Алексеевна сидела в кресле за небольшим столом, покрытым бумагами. Граф Панин, только что подавший императрице заявление Петра Фёдоровича об отречении от престола, приготовлял указы для подписи государыни. Рядом с креслом Екатерины Алексеевны стоял Григорий Орлов, не успевший ещё переменить погоны поручика на эполеты генерал-лейтенанта, но с орденом Святого Александра Невского на груди. Екатерина Алексеевна тоже была ещё в том же самом офицерском мундире, в котором гарцевала впереди гвардейцев, только на её голове была маленькая генеральская шапочка с белым султаном. По другую сторону кресла заняла место княгиня Дашкова, в костюме пажа, с екатерининской лентой через плечо. Эти две переодетые женщины, поручик с орденом Святого Александра Невского и Панин в напудренном парике с тремя спускающимися вниз косичками производили такое впечатление, точно действие происходило где-то в маскараде.