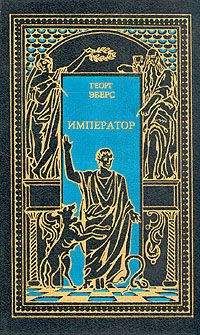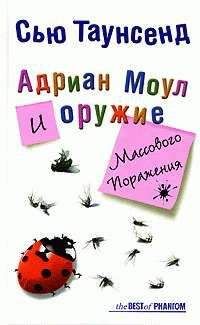Ознакомительная версия.
Круг лож, на которых помещались Флор, Фаворин и их александрийские друзья, казался как бы островом среди бушующего моря оргии. Здесь тоже усердно осушались кубки, и Флор говорил уже заплетающимся языком, но все-таки здесь преобладала беседа.
За два дня перед тем император посетил Музей и вел там научный разговор с самыми выдающимися учеными перед собравшимся кругом их учеников.
Наконец завязался настоящий диспут.
Достойна удивления была остроумная диалектическая ловкость, с какой Адриан, говоривший на чистейшем аттическом наречии, сумел загнать своих противников в тупик.
Император оставил знаменитое ученое учреждение, дав своим оппонентам обещание в скором времени сразиться с ними снова.
Философы Панкрат и Дионисий142 так же, как и вполне трезвый Аполлоний, рассказывали об отдельных эпизодах этого замечательного поединка умов и расхваливали изумительную память и находчивость императора в возражениях.
— А между тем вы видели его не в лучшие его минуты! — вскричал галльский софист и ритор Фаворин. — Он получил от оракула угрожающее предсказание, и звезды, по-видимому, подтверждают его. Это портит ему настроение. Говоря между нами, я знаю некоторых людей, превосходящих его в диалектике, но в свои веселые часы он непреодолим — да, непреодолим. С тех пор как мы примирились с ним снова, он относится ко мне, как брат. Я защищаю его против каждого, потому что, как я уже сказал, Адриан мой брат.
При этих хвастливых словах галл с вызывающим видом посмотрел горящими глазами кругом. В опьянении он бледнел, становился обидчивым, хвастливым и очень разговорчивым.
— Ты прав, — отвечал ему Аполлоний, — но нам показалось, что он был язвителен в споре. Его глаза были более мрачны, чем веселы.
— Он мой брат, — повторил Фаворин, — а что касается до его глаз, то, клянусь Геркулесом, я видел их блистающими, как яркое солнце и весело мерцающие звезды! Я его рот! Я знаю его. Он мой брат, я бьюсь об заклад, что в то время, как он снизошел до того, чтобы с вами — это слишком комично, — чтобы с вами спорить, в каждом уголке его рта смеялся сатир, так… посмотрите только сюда… так смеялся!
— Я остаюсь при своем мнении. Он показался нам более угрюмым, чем веселым, — повторил Аполлоний с досадой, а Панкрат прибавил:
— Если он в самом деле умеет шутить, то, право, он не дал заметить этого.
— Не понимай дурно моих слов, — засмеялся галл. — Вы его не знаете, но я его брат и имею право быть везде, где находится он. Вот я вам расскажу два-три анекдота о нем. Если бы я хотел, то мог бы описать его нутро, точно оно лежит на поверхности вина в моем кубке. Итак, слушайте. Однажды он осматривал в Риме вновь отделанные термы Агриппы и увидел в аподитериуме143 одного старика ветерана, который где-то сражался вместе с ним. Моя память возбуждает большое удивление, а его память немногим уступает моей. Император, конечно, узнал ветерана и подходит к нему. Старик назывался Скавром… да, да, Скавром. Он не тотчас узнал цезаря; рубцы от ран у него горели после ванны, и он тер свою спину о грубый камень какого-то столба. Адриан спросил его: «Зачем трешься о камень, друг мой?» И Скавр, не оборачиваясь к нему, ответил: «Затем, что у меня нет раба, чтобы позаботиться об этом». Послушали бы вы, как засмеялся император! Щедрый, каким он бывает по временам, — я говорю, по временам, — он сейчас же подарил Скавру порядочную сумму денег и двух хороших рабов. Слух об этой истории быстро распространился; и когда этот человек, которого вы считаете не способным шутить, через некоторое время вновь пришел в баню, на его пути тотчас же встали два солдата, начали тереть свои спины о стену, как Скавр, и закричали императору: «Великий цезарь, у нас нет рабов!» — «Так трите друг друга», — сказал император и пошел дальше.
— Превосходно! — засмеялся Дионисий.
— Теперь еще другая правдивая история, — прервал его словоохотливый галл. — Однажды к Адриану пристал какой-то седоволосый человек, прося милостыню. Это был негодяй, паразит, который переходил от одного стола к другому и кормился за счет чужого кошелька и из чужих мисок. Император знает людей и прогнал его. Тогда этот попрошайка, чтобы не быть узнанным, выкрасил свои седые волосы в темный цвет и попытался подойти к императору вторично. Но глаза у Адриана зорки. Он указал просителю на дверь и сказал при этом с самой серьезной миной: «Недавно я уже отказал в подаянии твоему отцу». В Риме ходит множество историй о подобных шутках императора, и, если вы желаете, я расскажу вам еще целую дюжину их.
— Ну, рассказывай, выкладывай нам свои истории. Это все мои старые знакомые, — проговорил Флор заплетающимся языком. — А пока Фаворин болтает, мы можем пить.
Галл презрительно посмотрел на римлянина и быстро возразил:
— Мои речи чересчур хороши для пьяных.
Флор начал придумывать ответ, но, прежде чем нашел его, приближенный раб Вера вбежал в пиршественную залу, крича:
— На Лохиаде пожар, во дворце императора…
Вер сбросил с ног покрывало из лилий, разорвал пополам защищавшую его газовую сетку и крикнул запыхавшемуся слуге:
— Колесницу, сейчас колесницу! До свидания, до какого-нибудь другого вечера. Благодарю вас, друзья, благодарю за честь, которую вы оказали мне; я должен ехать на Лохиаду.
Одновременно с Вером, который, не набросив даже паллия, быстро исчез из залы и разгоряченный, в чем был, выбежал на прохладный ночной воздух, вскочила и большая часть гостей, оставив дом, чтобы посмотреть на зарево и послушать новости. Только очень немногие из них отправились на место пожара, чтобы помочь тушившим гражданам.
Многие сильно опьяневшие бражники остались на своих ложах.
Когда Фаворин и александрийцы поднялись со своих подушек, Флор вскричал:
— Никакой бог не вытащит меня отсюда, если бы даже сгорел и весь дом, и Александрия, и Рим, да, пожалуй, и все местечки и страны на земле! Пусть горит все! Римская империя все равно не может стать более великой и совершенной, чем при императорах. Пусть все горит, как куча соломы, мне это безразлично, я останусь здесь и буду пить.
На сцене прерванного пира царствовал невообразимый беспорядок. Вер между тем спешил к Сабине, чтобы известить ее о случившемся.
Бальбилла первая заметила пожар, и даже в самом его начале, когда после прилежной ночной работы, перед тем как лечь в постель, посмотрела на море. Она тотчас же поспешила вон из дома, крикнула: «Пожар!» — и принялась искать кого-нибудь из слуг, чтобы велеть разбудить Сабину.
Вся Лохиада сияла пурпурным и золотым пламенем. Она составляла ядро широко раскинувшегося нежно-розового сияния, яркость и объем которого то уменьшались, то увеличивались.
Вер нашел поэтессу у двери, которая вела из сада в покой императрицы. На этот раз он не обратился к ней с обычным приветствием, а только торопливо спросил:
— Уведомлена ли Сабина?..
— Кажется, еще нет.
— Так вели разбудить ее. Поклонись ей от меня. Я должен отправиться на Лохиаду.
— Мы поедем вслед за тобой.
— Останьтесь здесь; там вы будете мешать.
— Я займу очень мало места и поеду с тобой. Какое великолепное зрелище!
— Вечные боги! Пламя поднимается также и ниже дворца, у гавани императоров. Куда это запропастились колесницы?
— Возьми меня с собой!
— Нет, ты должна разбудить императрицу.
— А Луцилла?
— Вы, женщины, останетесь там, где находитесь.
— Что касается меня, то, разумеется, нет. Императору, надеюсь, не грозит опасность?
— Едва ли. Старые плиты не могут сгореть.
— Посмотри только, как это великолепно! Небо превращается в пурпурный шатер. Прошу тебя, Вер, позволь мне сопровождать тебя.
— Нет, прекраснейшая! Там нужны мужчины!
— Как ты неласков!
— Наконец-то! Вот подъезжает колесница. Вы, женщины, останьтесь здесь. Ты поняла меня?
— Я не позволю никому приказывать мне и отправляюсь на Лохиаду.
— Чтобы видеть Антиноя в пламени?.. Подобное зрелище представляется не каждый день, — вскричал Вер насмешливо, вскакивая на колесницу и сам схватывая вожжи.
Бальбилла с досадой топнула ногой.
Она пошла в комнаты Сабины и окончательно решила отправиться на место пожара.
Императрица не впускала к себе никого, пока не была одета, даже Бальбиллу. Служанка сообщила, что хотя Сабина и встанет, но ее здоровье не позволит ей выехать среди ночи.
Поэтесса пошла затем к Луцилле и попросила ее поехать с нею на Лохиаду. Луцилла тотчас же выразила свою готовность; но когда она услышала, что ее муж желает, чтобы женщины оставались в Цезареуме, то объявила, что она должна повиноваться ему, и попыталась удержать свою подругу. Однако упрямая кудрявая головка твердо решилась исполнить свое желание именно потому, что Вер запретил ей это, да еще и с насмешкою.
После краткого объяснения со своей подругой она оставила Луциллу и пошла к компаньонке. Она рассказала Клавдии, в чем дело, устранила ее возражения очень решительным приказанием, самолично отдала распоряжение управляющему дворцом приготовить колесницу и приехала к горевшему дворцу часа через полтора после Вера.
Ознакомительная версия.