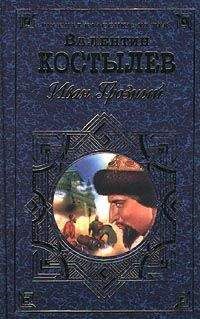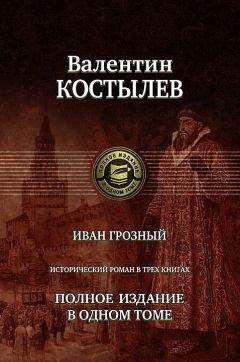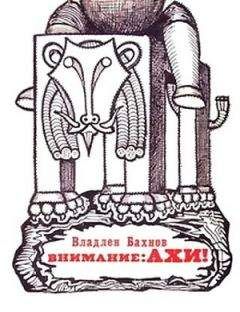Поддерживаемая Варварой и Фотиньей, Анастасия Романовна усердно помолилась на икону. Потом взглянула на царя.
– Непослушный ты! – тихо сказала она. В глазах были слезы.
– Можно ли мне, бросив стольный град в несчастье, бежать, словно зайцу?.. Государыня, не склоняй к малодушию! Люблю тебя, но... Москва! Подумай! Москва горит...
Голос его дрогнул, он, крепко обняв жену, поцеловал ее, оттолкнул Варвару Нагую и Фотинью, поднял царицу на руки и понес ее через покои дворца к выходу.
Находившиеся на крыльце и около него люди низко опустили головы, не смея взглянуть на царицу. Видны были только их согнутые спины и руки, касавшиеся кончиками пальцев земли. Стало так тихо, словно толпа придворных и дворцовых слуг сразу окаменела, стала безжизненной.
Около повозки, тоже согнувшись, стоял митрополит Макарий. Он благословил царя и царицу, когда царь передал ее боярыням. Иван Васильевич сам усадил ее и детей в повозку. Еще и еще раз поцеловал ее и детей, помог сесть митрополиту и двум лекарям. Окна плотно завесили занавесками.
Полсотни стремянных стрельцов на лихих скакунах окружили повозку под началом Алексея Басманова.
Царь приказал Басманову не гнать коней, ехать тихо, не беспокоить царицу криками и щелканьем бичей, а в Коломенском дворце поставить крепкую стражу. Басманов, сидя на коне в шелковом голубом кафтане, расшитом золотыми жгутами, почтительно поклонился, слушая распоряжение царя.
Иван Васильевич озабоченно осмотрел коней и отряд стрельцов и, найдя все в порядке, махнул рукой.
– Ну, с Богом!
Запряженный осьмеркой сильных вороных лошадей, большой шестиколесный возок, привешенный на ремнях вместо рессор, тихо выехал в раскрытые ворота.
Иван Васильевич долго смотрел с крыльца вслед возку, пока он не скрылся из глаз, затем помолился, окинул строгим взглядом людей, собравшихся около крыльца.
Григорий и Василий Грязные уже были тут с толпою своих стражников, ожидая приказаний царя.
– Коней! – громко крикнул Иван Васильевич. – На пожар поскачем! Берите копья, багры, кадушки с водой! Проворь!.. Где горит?
– На Арбате, великий государь! – ответил Василий Грязной. – Шибко горит!
Быстро собрали обоз с бочками, с баграми, с лестницами.
Царь, переодевшись в платье, мало отличавшееся от одежды простолюдина, вскочил на своего коня.
– Гайда! – крикнул он.
Всадники и обоз помчались к Троицким воротам... Впереди всех скакал на коне с гиканьем, размахивая плетью, вихрастый, горластый Василий Озорной, как звали Грязного в Кремле. За ним два стрелецких сотника, потом сам царь, а позади всех Григорий Грязной с десятком конных копейщиков.
На Арбате творилось что-то страшное.
Дышать нечем, душило смрадом, копотью; раскаленный воздух обжигал лицо, а царь скакал все вперед и вперед, в тот конец слободы, где еще огонь не успел распространиться с такой силою, как посреди Арбата. Поперек дороги удушливой стеной перекинулась мутная, непроницаемая мгла пожарища. Василий Грязной осадил коня, оглянулся на царя, тот выхватил саблю и указал ею скакать дальше.
Не задумываясь, Грязной нырнул в смрадное марево, за ним стрельцы и сам Иван Васильевич. Ударило жаром, стиснуло глотку, голова одеревенела, в ушах начался гул, кони полезли на дыбы, но еще, еще несколько скачков... и снова размах бушующих огней и клубы уходящего столбами к небу густого дыма.
В иных местах строения догорали, в иных уже сгорели, а местами еще загорались. Туда-то и отправил царь свой обоз.
Толпившиеся здесь бояре и дворяне, увидев царя, низко поклонились ему.
Подъехав к пожарищу, Иван Васильевич сбросил с себя саблю, соскочил с коня, выхватил у стрельца багор и побежал к ближайшему только что вспыхнувшему дому.
Василий Грязной приставил лестницу к крыше. Пламя билось под крышей. Надо было дать огню выход. Царь крикнул Грязному, чтобы тот отодрал тесины. Сам тоже полез на крышу, приказал, чтобы ему подавали воду.
Стрельцы поднимали бадью за бадьей. Царь выхватывал их и, приближаясь к раскрытым Василием Грязным местам в крыше, обдавал их водой.
На это со страхом взирали бояре, оцепеневшие внизу при виде царя. Огонь полыхал рядом с царем, казалось, он уже коснулся его одежды. Но вот царь скинул с себя кафтан и бросил его вниз. Народу, возившемуся внизу с бочками и растаскивавшему горящие балки, бросились в глаза могучая грудь царя, его широкие плечи и мускулистые руки.
Среди пламени и дыма видно было, как царь и Грязной с двух сторон гасят огонь водою из подаваемых им снизу бадеек.
Устыдившись, бросились в пучину огня и дыма спасать соседние строения бояре, дворяне и простой народ.
Кое-кто срывался с горящих домов, иные проваливались в горящие здания и погибали там.
С почерневшим от копоти лицом Иван Васильевич обернулся к суетившимся внизу людям и велел им окатывать Арбат. Вмиг набежал народ с лопатами, мотыгами – мужчины, женщины, дети.
Царь потребовал копье, стал копьем сбрасывать на землю еще продолжавшие гореть балки. Внизу их засыпали землей, топтали ногами.
Большой, грозный, покрытый сажей и копотью, размахивая копьем, царь привел в движение всех. Малые ребята и те стали копошиться около огня, помогая старшим.
Василий Грязной лазил по самому карнизу высокой хоромины, как кошка; казалось, вот-вот он сорвется и упадет, но нет! В опасный момент он ловко заваливался в сторону, сохраняя равновесие.
Потушив огонь в этом доме, царь остановился, разгладил рукою волосы, провел ладонью по груди, выпрямился, осматривая другие горевшие в соседстве дома, и крикнул, что есть мочи, охрипшим голосом:
– Васька! Айда вон в ту хоромину!..
Блеснули большие, страшные белки под густой бахромой почерневших от сажи ресниц. Царь быстро слез на землю и побежал с копьем в руке к соседнему дому.
...Пожар бушевал несколько дней, и все время принимал участие в тушении пожара сам царь.
– Нет такого огня, который мог бы сжечь Москву! – сказал царь с гордостью, когда покончили с пожаром. – Москва мир переживет!..
А через несколько дней царь со своими телохранителями, кавказскими горцами, под началом князя Млашики, поехал за Анастасией Романовной в село Коломенское.
* * *
В кремлевских домах страх и тишина. У всех ворот конная и пешая стража; на кремлевских стенах караульные пушкари; площади и улицы в Кремле опустели; свирепо таращат глаза, держа наготове арканы, псари: они ловят бродячих собак.
В боярских теремах перешептываются, вслух не говорят. Из уст в уста передается весть, будто в ночь, когда царицу привезли в Кремль из села Коломенского, под окнами царицыных покоев черная косматая собака вырыла глубокую яму.
Царь велел изловить провинившегося пса и сжечь его живьем в печи, а сторожей-воро́тников посадить в земляную тюрьму и пытать, откуда взялась та негодная тварь, чья она и кто об этой яме пустил слух, да и собака ли вырыла ту яму, могла ли она изъять столько земли из недр? Сам Иван Васильевич осматривал яму, и ему показалось, что рыто не собачьими лапами, а либо мотыгой, либо лопатой. Но все же пса должны сжечь, чтоб злодеи знали, что с ними будет поступлено так же.
В расспросе сторожа-воротники крест целовали, что они тут ни в чем не повинны и что собака та, по их мнению, – нечистая сила, которая пробралась на царский дворик невидимо и неслышимо, а не собака. Оборотень! Они ее поймали и доставили в дворцовый сарай.
Когда царю донесли о том, он задумался; велел, чтоб собаку жгли при нем: он, царь, по естеству сразу увидит, настоящая та собака или наваждение. Так и было сделано. Царь взял в руки обгорелые кости и шерсть сожженной собаки и деловито осмотрел их. Кости как кости; он остался при своем убеждении: собака настоящая, никакого волшебства в ней нет, визжала она так, как визжит всякая тварь, если ее жгут. И мясо, и кости, и шерсть – все земное, плотское, а сторожей, за то, что они хотели обмануть царя, Иван Васильевич приказал бить плетьми нещадно, пока «голоса не станет».
Все это делалось в полнейшей тайне от царицы. Под страхом любой казни запрещено было царедворцам, слугам, царицыным бабкам рассказывать Анастасии Романовне о собаке и об яме.
Дошло до царя, что Сильвестр обмолвился в монастыре, куда удалился на покой, про Анастасию: «Иезавель нечестивая, не царица она кроткая! Все прикидывается! А сама крови так и жаждет, так и просит от обезумевшего царя и супруга своего!»
В хоромах Владимира Андреевича и вовсе молились о том, чтобы Бог прибрал «болящую рабу Божию Анастасию». Особенно усердие к тому прилагала его мать, княгиня Евфросиния. Она даже свечи в своей моленной ставила зажженным концом книзу, а когда огонь с шипеньем угасал, придавленный к подсвечнику, приговаривала: «Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы Анастасии».
То же самое делали боярыни во многих теремах. Проклинали там не только Анастасию, но и весь род Захарьиных, ее братьев – Данилу, Григория и Никиту, – судачили, что все через них: и война с Ливонией, и опалы на бояр, и то, что царь променял бояр на иностранцев, татарских князьков, казаков, дворян незнатных и дьяков-писарей. Все ставилось в вину Анастасии и ее родичам.