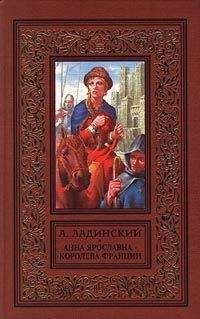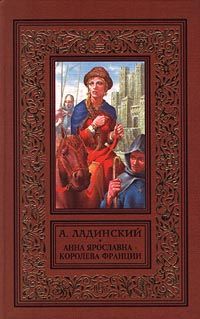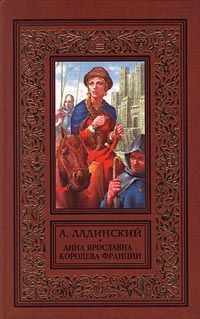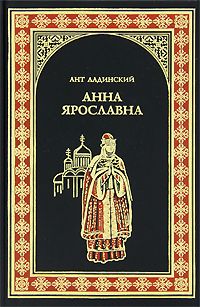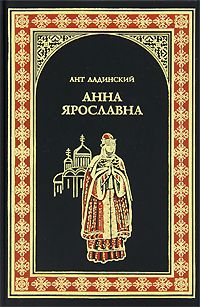Врач учтиво поклонился епископу и затем попросил, чтобы все отошли от ложа больной, о высоком звании которой его уже предупредили. Для большей наглядности он даже показал короткими руками, как надо это сделать. Присутствующие беспрекословно выполнили требование медикуса. Тогда Бонифациус склонился над больной, внимательно осмотрел ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, и взял пухлыми пальцами горячую руку королевы. Глядя куда-то в потолок, точно прислушиваясь к чему-то, врач считал удары жилки. Они были частые и резкие.
Епископ подошел к лекарю с озабоченным видом.
— Ignis fibrarum maximus est. Pebris accessio note 15, — грустно сказал ему медикус.
— Una salus est — misericordia dei nostri note 16, — вздохнув, ответил епископ.
На ученых мужей, способных изъясняться по-латыни, все взирали с уважением, смешанным с некоторым страхом. Для малых сих наука была закрытым миром, в который они даже не пытались проникнуть. Всякая книга оставалась для простодушных полной заманчивых тайн.
Бонифациус заметил произведенное им впечатление, и лицо медика стало еще более надменным. Такие мгновения вознаграждали лекаря за бедность и все житейские невзгоды. Красноватый носик между отвисающих щек и плотно сжатый, маленький, как у младенца, рот — все дышало величием философского мышления.
Епископ отозвал его в темный угол и шепотом спросил:
— Чем больна королева? Обыкновенная ли это болезнь или что-либо другое?
Врач захватил рукою пухлый подбородок и о чем-то размышлял.
— Полагаю, что у королевы поражена недугом плевра.
— Болезнь ее в легких?
— Там она гнездится и наполняет все тело жаром и холодом. Да будет тебе известно, что в человеческом организме четыре жидкости. Кровь, лимфа, желтая и черная желчь. От них и зависит здоровье человека. Оно заключается в равновесии этих жидкостей, и когда одна из них убывает, то наступает нарушение телесной крепости.
— Чем же ты будешь лечить королеву? — спросил епископ, практический ум которого не удовлетворился учеными разглагольствованиями медикуса.
— Я еще не знаю, какая у больной мокрота. Но если она будет вначале бесцветной, а на шестой день желтого цвета и на девятый — гнойной, значит, я не ошибся в определении болезни.
— Но какие снадобья ты намерен давать больной?
— Потогонное. Врачи с острова Кос, о которых я читал в трактате «О природе человека», советуют в подобных случаях делать уколы, чтобы удалить гной из легких. Но это весьма рискованное предприятие.
— Как же нам поступать?
— Надо потеплее укрыть больную. Чтобы тело покрылось испариной, и тогда вытереть ее вином, смешанным с уксусом.
— Каким вином, красным или белым?
— Лучше белым, потому что красное оставляет следы на белье…
Пообещав немедленно приготовить потогонное средство, врач удалился, совершенно уверенный во всемогуществе своей медицины. Самое важное было — определить болезнь. А если человек умирал по всем правилам, то это не умаляло торжества науки.
Но жизнь Анны висела на волоске. К полуночи ее дыхание стало хриплым и мучительным. Она металась на постели и прижимала к подушке то правую щеку, то левую…
Почти все покинули королеву. У ложа остались только Милонега и Волец.
Когда время перевалило за полночь, Анна начала бредить, выкрикивала непонятные слова. Потом вдруг приподнялась на кровати и сказала:
— Милонега? Ты здесь?
— Я здесь, — упав на колени перед ложем, ответила наперсница.
— Милонега!
— Что, госпожа?
— Надо торопиться…
— Куда торопиться?
— Пусть приготовит коней… Скажи Яну…
— Что с тобой, госпожа?
— Собери меня в путь…
— Куда же ехать в такой час! — уговаривала королеву Милонега. — Смотри, на дворе — черная ночь. Ветер воет в трубе. Поспи! А завтра настанет утро, взойдет солнце, и мы поедем по следам князя Изяслава…
Всю ночь Анна бредила, призывала к себе сыновей, когда же пропели третьи петухи и уже можно было ждать наступления рассвета, больная очнулась, пришла в себя и села на постели. Рыжие волосы, еще не тронутые сединой, хотя королеве уже перевалило за пятьдесят, упали на плечи обильными прядями. Глаза у Анны горели лихорадочным огнем.
— Милонега! — звала она шепотом верную прислужницу.
— Я здесь, госпожа, — бросилась к ней измученная старуха.
— Неужели я умираю? — спросила Анна.
Она не отрываясь смотрела куда-то вдаль. Милонега, как могла, успокоила больную и опять уложила в постель.
Душа Анны снова погрузилась во мрак. Борьба между жизнью и смертью продолжалась. Анна жила в мире бредовых видений, цепляясь пальцами за ворот рубашки, за шерстяное покрывало, за руки Милонеги.
Король Генрих и граф Рауль, ложе которых она делила, стояли у постели и спорили грубыми голосами о том, кому принадлежит город Крепи, и Анна плакала от бессильного отчаянья, что не может примирить их… Вдруг появился епископ Готье Савейер… Он держал в руках толстую книгу, раскрыл ее и показывал королеве какое-то полное значения место, однако латынь уже перестала быть для болящей понятным языком… Потом возник из тьмы Людовикус и, прижимая к груди лисью шапку, стал говорить о Риме. Что он рассказывал о Риме? Анна махнула рукой, и Людовикус исчез…
Теперь уже вышгородские дубы шумели над голо вой, и Ветрица радостно заржала, почуяв свою всадницу, и все было так ярко, что Анна даже увидела тревожный и полный отраженного сияния глаз кобылицы, вспомнила ее нежные розоватые губы…
Наступил четвертый день. Епископ Оттон с позором изгнал медикуса Бонифация. Ученейший врач горестно брел по улицам Вормса, размахивая руками и бормоча себе под нос латинские слова, и встречные сторонились от него, как от безумца. Был вызван другой врач, старый Рихард, пользовавший Трирского епископа Бурхарда, уехавшего вместе с Изяславом на Русь. Но и этот медик был бессилен перед недугом Анны, хотя иногда сознание возвращалось к королеве, и тогда она просила пить, узнавала Милонегу, жаловалась на ужасную головную боль. Стискивая голову похудевшими руками, Анна медленно вспоминала то, что случилось с нею за последние дни, и даже охватывала мысленным взором всю свою жизнь, от счастливого детства до парижского дворца, точно предчувствуя, что приходит конец.
Было пять часов пополудни. Но день выдался облачный, и в горнице уже стоял сумрак. Анна вдруг приподнялась, села на постели и позвала страшным голосом Милонегу.
— Я здесь, — ответила та в смятении, потому что никогда не видела королеву в подобном волнении. Обезумевшими глазами, в которых мешались печаль и радость, Анна смотрела куда-то вдаль и простирала трепетные руки к чему-то невидимому для других.
— Милонега!
— Что, госпожа? — со слезами в голосе бросилась к ней прислужница.
— Смотри, Милонега!
Старая женщина повернула лицо в ту сторону, куда устремила свой взор больная, точно возможно было увидеть зримое в бреду только Анне.
— Разве ты не видишь, Милонега?
— Ничего не вижу, госпожа!
— Дорога поднимается в гору, а на горе — Вышгород.
— Вышгород! — повторила потрясенная Милонега.
— Днепр внизу голубеет…
— Еще что ты видишь, госпожа?
— Вижу милого брата Всеволода. Он идет ко мне, спускается из города. Узнаю его красную рубаху, с золотым оплечьем… Рядом с ним — король, мой сын, и Гуго…
Но все заволокло туманом… Анна в бессилии упала на подушку. Ей послышались далекие звуки скандинавской арфы. Над королевой веяли прохладой вышгородские дубравы. Вот знакомая бревенчатая хижина. Беловатый дымок все так же струится над тростниковой крышей. Как в тот вечер, Филипп стоял на пороге. Не сын, а другой На нем был длинный голубой плащ. Ярл что-то говорил беззвучными устами и улыбался. Так печально, что душа у нее наполнилась горечью и сердце пронзила острая боль. Молодой воин протянул к ней руки, и Анна могла рассмотреть тонкие пальцы, даже золотое кольцо, которое носил некогда Локки…
Москва, 1960
узкие штаны в обтяжку
монастырь (лат.)
род византийской материи ярко-красного цвета
воинские палатки
по-гречески фло — пчела, флорос — имя мученика, оставшиеся три буквы в греческом произношении обозначали русских (здесь автор ошибается: в греческом языке слова «фло» нет)
область в Византийской империи
в данном случае — ведающий церковным хозяйством, вообще же — королевский чиновник
помещение для переписки книг
общие понятия в средневековой философии
подземная часовня