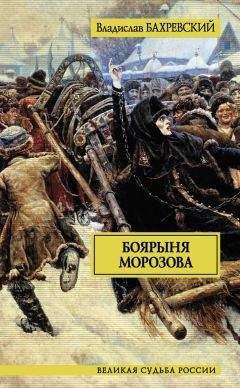Ознакомительная версия.
Федор поднял на Матвеева глаза, посмотрел долго.
– А еще говорят: прадедушка был блаженненьким.
Артамон Сергеевич поклонился отроку.
– Я про звоны, ваше высочество.
– Батюшка, – обратился Федор к отцу, – дозволь пойти к меньшому дядьке, к Ивану Богдановичу. Он сказывал: князь Федор Федорович пушку из Оружейной палаты для стольников моих привез. Поеду, погляжу.
– Стрелять-то где будете?
– В Серебряном бору, через речку. Поставим потешный город, и по городу.
– Сегодня не успеешь.
– Сегодня прикажу, завтра – построят. Послезавтра будем тешиться.
* * *
Авдотья Григорьевна за ужином рассказывала дворцовые новости. Один карла сунул голову в железную решетку, а назад – никак. Тут великая государыня Наталья Кирилловна взялась белыми ручками за железные пруты да и разогнула.
– Значит, и Петр вырастет богатырем! – обрадовался Артамон Сергеевич. – Мария Ильинична девок нарожала – все кровь с молоком, а царевичи здоровьем никудышные.
И вспомнил долгий взгляд Федора.
– А ведь не любит он меня.
– Кто? – не поняла Авдотья Григорьевна.
– Федор. Нужно ему подарком угодить.
После ужина сел обычно почитать книгу, «Титулярник» Спафариев, и прикорнул. Вздрогнул, отер слюнку с бороды, улыбнулся.
– День был долгим.
Лег спать и увидел перед собою щуку – в сережках. Хотел проснуться: рыбу вроде бы видеть к болезни, а вместо щуки – царевна Софья.
«Почему Софья?» – озадачился во сне Артамон Сергеевич и больше уж ничего не видел.
У боярыни Морозовой, у инокини тайной, объявился среди стражей сострадалец, стрелецкий полковник Калина Иванович. Однажды полковник шепнул боярыне:
– Подруга твоя, Мария Герасимовна, в тюрьме Стрелецкого приказа сидела, а теперь у крутицкого митрополита Павла в подвалах.
– Давно ли?! – ахнула боярыня.
– С весны. В апреле привезли. Священники силой персты ей в щепоть складывали, силой крестили. А она им свое: «Несть се крестовое знамение, но печать Антихристова».
– Слава богу, устыдила.
– Какое там устыдила! Смеялись: «Двумя перстами, какие ты слагаешь, показуя крест свой, младенцы калом себя мажут!» Вот как ответствовали.
– Господи! Господи!
– Стыдно мне за батюшек, – поклонился боярыне доброхот ее. – Чем облегчить участь твою, госпожа?
– Нижайше молю тебя! Живет в моих селах весьма престарелый священник. Жаль старости его. Приведи ко мне. Я хоть и сама ныне убога, но все богаче его. Дам ему, что имею на пропитание.
– А где же сыскать батьку? – удивился просьбе полковник. – Будешь рыскать из села в село, самого схватят.
– В доме моем спроси, управляющего имениями Ивана. Он укажет.
Двух дней не минуло – явился в палату, где заточена была Федосья Прокопьевна, игумен Льговского монастыря старец Иов.
Пала перед ним на колени боярыня-инокиня в радостном изнеможении. Стал рядом с нею игумен, поклонились иконам, помолились.
И преподал Иов Феодоре Святые Дары – кровь и тело Христово.
– Будто воз с горба скинула! – светилось лицо у Феодоры.
А княгиню Урусову – страдалицу Евдокию – монахини что ни день влачили в храм Господень. По-прежнему ездили сановитые жены смотреть на упрямицу, ужасаться друг перед дружкой неистовством.
Не раз, не два под окном княгини стаивал Михаил Алексеевич Ртищев. Смириться уже не просил, плакал: «Чего ради губишь себя?»
Вдруг приехал в радости, окликнул:
– Княгиня, слышишь?!
– Слышу, – отозвалась Евдокия.
– Был я нынче у святейшего Питирима, сказывал ему о тебе, о Феодосье Прокопьевне. Святейший ничего не знал о вашей беде. Он ведь новгородский… Обещал свое святительское заступничество перед царем. Господь послал нам кроткого архипастыря. На старообрядцев нынче запрещено гонительство. Слышишь?
– Слышу. Оттого и запрещено, что гарей испугались.
– Не пыжься, бога ради! Плохо ли, если имеющий власть людей бережет! Хорошему-то хоть не перечь! – горестно воскликнул Михаил Алексеевич и, прощаясь, подбодрил: – Молись Богу, да сменит великий государь гнев на милость… Сидишь тут кукушкой, а дома детишки твои болеют.
Ртищев ушел, а под окно пожаловала Елена, служившая Федосье Прокопьевне. Благословение сестрино передала.
– Жди меня! – шепнула Евдокия посланнице.
В тот день для надзора за строптивицей была прислана княгиня Черкасская.
– Голубушка, государыня! – взмолилась Евдокия. – Отпусти меня домой на малое время, детишек болящих поцеловать. Их утешу и сама утешусь… Игуменья в гостях, старицы днем спят… Накину на себя покрывало – никто меня не узнает.
Задумалась Черкасская.
– Будь по-твоему. За доброе дело в пекло меня не посадят. Но, чтоб мне быть в тебе уверенной, оставь свой образок Богородицы. Пусть будет тебе и мне помощницей, возвратит тебя незримо для недругов.
Нет, не домой поспешила княгиня Евдокия! Из своего затвора кинулась в затвор Феодоры. Вела ее бесстрашная Елена. На Арбате нежданно пристал к ним некий человечишка.
– Батьки мои! Никак княгиня Урусова! Сбежала, что ли?
– Не позорь, дурак, честную мужнюю жену! – пошла на озорника грозою княгиня. – Вот крикну стражу!
Струсил, отстал.
Пришли женщины к бывшему Печерскому подворью, где у Тайного приказа тайная тюрьма. Поглядела Елена на княгиню, прикинула:
– Анна Амосова на тебя фигурой весьма похожа! Жди Анну в часовенке.
Какими же долгими бывают минуточки!
Наконец Анна появилась. Поменялись покрывалами, и пошла Евдокия мимо стрельцов ни жива ни мертва. Да Богородица, знать, хранила – не остановили.
Словно было два света в Божьем мире, а стал один. Пропели сестры «Отче наш». Сели глаза в глаза и душа в душу.
Рассказала Евдокия о разговоре старца Ртищева с патриархом Питиримом.
– Ох! – покачала головой Феодора. – Ох! Все они, нынешние святители, – слуги гонителя нашего. Мне про Питирима много чего сказывали. Он разорил, развеял Курженскую пустынь. У Повенца. А церковь курженскую так даже сжег… Лютые люди! Михалыч, тишайший-растишайший, Навуходоносору уподобился. Его щепоть – тот же идол! В Казани за двуеперстие тридцать человек сожгли, во Владимире – шестерых. Соловецкого старца Иону на пять частей рассекли. Про другие места не знаю, может, где и похуже дела творятся.
– Кто тебе такие страсти наговорил?
– Митрополит Рязанский, владыка Илларион.
– Стращал… Меня тоже все стращают. Иван Глебович-то, сынок, бывает у тебя?
– Ох! – Федосья Прокопьевна даже за сердце взялась. – Отшатнулся… Для него, для горюшка мово, царь страшнее Бога…
– Прости, голубица! Родня из головы не идет… Обо всех передумаешь. У меня в дому, Михаил Алексеевич говорил, детишки расхворались. Дозволь еще спросить: от батюшки Аввакума вестей не приходило?
– Нет. Была у меня одна страдалица, милостыню да молитву нашу через нее отправила… Больно далеко Пустозерск.
– От нас далеко, а к Соловкам близко. Я слышала: царь нового начальника над войском поставил. Святую обитель осаждает нынче стрелецкий голова Климентий Ивлев. Войска чуть ли не с тыщу послано.
– Господь Бог не попустит, и тыща ни с чем на зимние квартиры воротится. Что крепость?! Что камень?! Сила человека в Божьей правде. Ты сие не забывай.
– Про Меланью скажи.
Не успела ответить инокиня. Дверь хлопнула. В палату толпой ввалились стражники.
– Я же говорил! – радостно указал молодой стрелец на Евдокию. – Урусова и есть. Что я, княгиню не знаю?
– Вязать ее! Ребята, чего смотреть? – шумели стрельцы.
– Подьячих нужно кликнуть, – предложил десятник. – Али самого Башмакова.
– Как галки! – пристыдила воинство Феодора. – С вас первых головы снимут. Позовите своего полковника.
Полковник внял мольбе сестер. Десять стражей получили по ефимку. Молчать обещали, поцеловав образ Богородицы. Начнется правеж – всех упекут в Сибирь.
– Оставайся, княгиня, на ночь, – решил полковник. – Под утро выпущу. Как раз и монастырь твой двери откроет.
Вместо худа – радость. Сладко молились сестрицы, душу слезами омывали.
Обошлось. Княгиня Черкасская не сробела, не выдала Евдокию, а старицы монастырские остались в неведении, что их затворница полдня да ночь у самой боярыни Морозовой гостевала.
А между тем о строптивицах опять заговорили на самом Верху. Патриарх Питирим был у царя, просил царя помиловать сестер.
– Советую, самодержавне, быть милосердным к вдовице Морозовой. Изволил отдать бы ей дом да на потребу сотницу дворов крестьянских. А княгиню князю бы вернул. Так бы дело-то приличнее было. Много ли бабы смыслят в Божественном? Соблазну на всю Москву!
Алексей Михайлович про себя удивился смелости архипастыря, но выказал смирение:
– Святейший владыка! Я бы давно сотворил желанное тобою. Увы! Не ведаешь ты лютости Федосьи Прокопьевны. Я столько ругани от нее принял! Злейшей, неистовой! Таких хлопот, как от боярыни, я от врагов царства нашего не видывал во все годы моего самодержавства. Коли не веришь моим словам, изволь искусить ее, призвавши перед собой. Узнаешь тогда, каково бабье супротивство! Обещаю тебе, святейший! После любого повеления твоего владычества – не ослушаюсь, сотворю.
Ознакомительная версия.