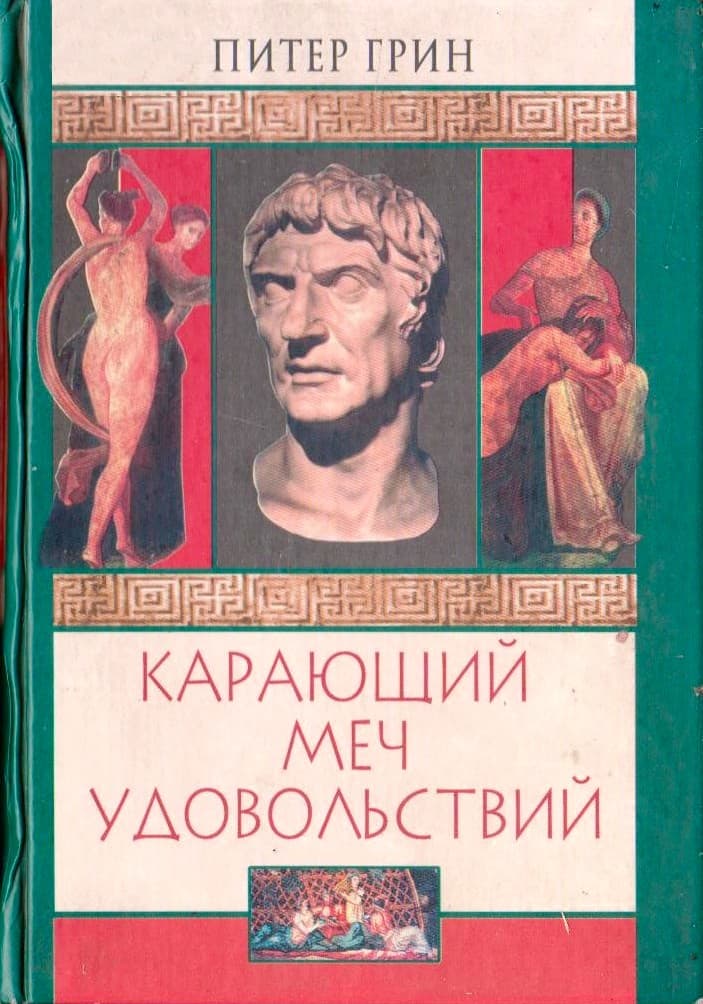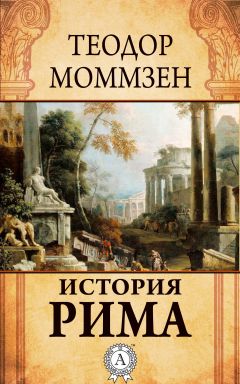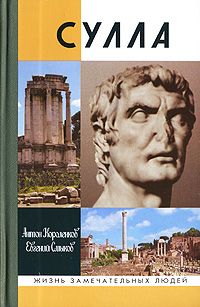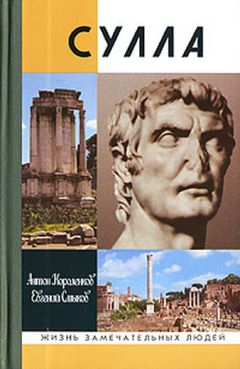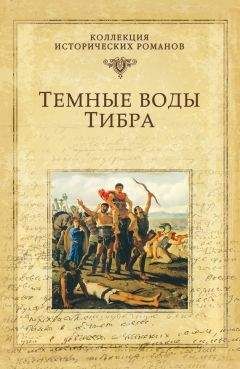граждане ходили перед ним на задних лапах. Тяжелые кольца, завитые и надушенные волосы, великолепные одежды, одиозная насмешка привилегированного.
Они видели все это и безрассудно ненавидели. Они не думали о справедливости. Их изнутри снедала зависть, как сбитое ветром яблоко гниет с серединки, где поселяются черви.
Моей ошибкой была моя беспечность. Легко наделять властью, стать зависимым от подчиненного, игнорировать то, что каждый предпочитает не видеть. Я признаю свою ошибку. Хрисогон превратился в монстра тиранических амбиций, а я ничего не предпринимал.
Они видели Хрисогона, они видели Помпея. Они ненавидели их и преклонялись перед ними.
Я вижу тебя насквозь, Помпей, но вижу я не всеми любимого героя, а тщетного, слабого молодого человека, сознающего свою силу, обиженно требующего триумфа. Ты спорил со мной в моем собственном доме, крича, чтобы достучаться до меня через мою глухоту, краснолицый и выведенный из терпения старым дураком, который не услышал твоего самовосхваления, который один стоит у тебя на пути.
«Упрям до невозможности, — сказал ты тихо (не исключено, что ты немного испугался собственной смелости). — Подумай, Сулла, что люди скорее поклоняются восходящему, чем заходящему солнцу».
Когда я для проверки переспросил, что ты сказал, они все обеспокоенно насторожились, эти патрицианские временщики, держа нейтралитет в опасный момент.
В конце концов раб проорал мне эти слова в ухо.
— Разрешите ему триумф, — сказал я тогда. Мне было совершенно наплевать. — Разрешите ему триумф.
Пусть дураки и молодежь оскорбляют власть, за которую я жертвовал своей жизнью. Пусть Фаэтон правит колесницей Солнца.
Мне следовало бы убить тебя, Помпей. Народ кричал бы о несправедливости, но скоро люди забыли бы о тебе, как забудут обо мне и каждом, кто ими правит. Неразумный прилив, который притягивает холодная луна, стирает все, что мы строим на песке.
Они немного поненавидят, немного полюбят, а потом забудут. Они едины и непоколебимы, те, кто не способен ни на действия, ни на страдания — лишь на потребление. Они нанесли мне удар через Хрисогона — скандал, убийство, в которое он был вовлечен ради собственной выгоды, ложное обвинение. Суд выкристаллизовал всю безобразную ненависть в их умах.
Молодой неизвестный адвокат, исключительно отважный, выставил вольноотпущенника ненавидимого диктатора преступником. Какой адвокат отказался бы намекнуть, что сам диктатор удит рыбу в мутной воде и что справедливость, за которую он стоит горой, лишь маска для прикрытия его собственной жадности?
Этот адвокат был умен, он просто обязан быть умным. Он расписал меня добродетельным правителем, не имеющим понятия о прегрешениях своих служащих. Я до сих пор слышу этот твердый, скрипучий, высокий голос. «Неужели ради этого, — визжал он, — ради этого наши наиблагороднейшие люди сражались под командованием Суллы, спасая государство, — чтобы бывшие рабы и подхалимы высокопоставленных людей могли отвоевать себе власть обирать наши имения и присваивать себе наши состояния?»
Чего ради? Неужели ради этого? Беспощадное заявление юнца до сих пор жжет, произнесенные им слова не выходят у меня из головы.
Однако я действительно ничего не знал. Хрисогон потратил целое состояние, чтобы не держать меня в курсе дел. Теперь это не имело значения, правда была никому не нужна. Народ слушал и судил. Меня осуждали, конечно, будто это я сам стоял перед трибуналом.
Я был одинок, крайне одинок. Патрициям, которые ненавидели выскочку Хрисогона, не нужен был и его хозяин. Всходило новое солнце, и они повернулись к нему. Они забыли о молодости Помпея, о тех насмешках, которыми они его осыпали. Александр вернулся домой с триумфом, и он — не я. Рим наконец обрел своего великолепного героя. О старом, больном, безобразном тиране, который потерял свою власть, можно и забыть.
Вот только я забыть не могу».
Я слушал, как бы со стороны, как мой голос задрожал и осекся, будто говорил кто-то другой, а не я сам. Тишину нарушало лишь царапанье стилуса Эпикадия, пока он писал эти заключительные слова.
Эскулапий сидел неподвижно, наклонив голову и сжав руки. Некоторое время спустя он посмотрел на меня и печально улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, вышел, его синее с красным одеяние волочилось по полу.
Эскулапий — тщедушен, хил, на десять лет старше меня, и все же он будет жить, когда я умру.
Казалось, Эпикадий перечитывал то, что написал, — я не мог видеть его лица.
Темнота, и мигающие свечи. Вышедшие на ночную рыбную ловлю рыбаки должны быть уже в заливе. Так много незаконченного, как много сделано не так или испорчено! Так мало времени осталось для работы — потерянные годы, как пыль в горле.
Помпей получил свой триумф, и Рим приветственными криками провожал его до Капитолия.
Хрисогон под покровом ночи сбежал из страны. Неужели он вернулся к Митридату? Я об этом никогда не узнаю. Иногда мне кажется, что вся его связь со мной была терпеливой, тщательно спланированной местью. Он был подарком Митридата мне, хитрого, ловкого, непримиримого Митридата, который не забывает ущемленного самолюбия или унижения до конца своей жизни. Неужели Хрисогон был послан, чтобы уничтожить меня на пике моей гордости?
Он возник словно тень, демон, и исчез точно так же, как и возник.
Боги, продлите мне жизнь, пока я не восстановлю ваш большой храм на Капитолии и не примирюсь с вами. Работа идет медленно, слишком медленно. Эти угрюмые рабы и беспечные архитекторы думают, что я могу ждать целую вечность! Сожженные и почерневшие руины все еще насмехаются над моими притязаниями. Только умирающий человек познает всемирное безразличие к его смерти. «Послушайте, — скажет он, — эту чашу я осушаю в последний раз, солнце больше никогда не посветит мне, дождь не прольется из туч, зерно не созреет. Пастух будет играть на свирели, а я не услышу.
Этого не может произойти! — закричит он. — Не может! С другими, возможно, но не со мной. Звезды в их разнообразии и небо останутся, а я не буду их видеть?!»
Мир стареет, и каждый день люди умирают, гниют, превращаются в прах и землю. Я говорю эти слова, но я им не верю.
Метелл пишет из Испании, что Серторий, последний и самый влиятельный из мятежников Мария, сбежал в Африку и мечтает найти Острова Счастья и обрести мир и свободу. Я также мечтаю о морских путях на запад, безвременных берегах лотоса, Цирцее и Одиссее, о страннике Одиссее, который знал народы и города, легком на ногу, благородном, беспринципном. Я путешествовал, но никогда не слышал голосов со скал, я путешествовал в одиночестве по городу своей мечты, а это был жестокий, предательский город метаморфоз Цирцеи, где свиньи