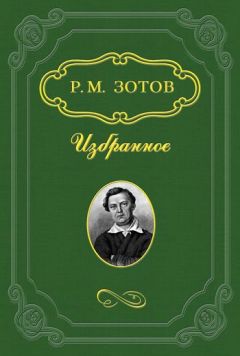— Суди сама, государыня-царевна. Потребовалось Петру Алексеевичу для игры военной как можно больше ратных собрать. До того дошло, что всех подьячих из приказов для ученья выставить велели. Учили их конных с пистолетами, пеших с мушкетами. Оказалось мало. Тогда Петр Алексеевич распорядился на площадях московских да улицах ловить всех помещиков, стольников, стряпчих, дворян московских, жильцов. Каждого водили в Разряд к подписке руку прикладывать, чтоб быть в Преображенске в указанное число с пистолетами для ратного учения.
— О помещиках из окрестных городов знаю, что велено было им на добрых лошадях с пистолями являться и приезд свой в Разряде записывать.
— Сама видишь, государыня-царевна, игрушки все это — не войско настоящее. В деле от них проку не будет.
— Зато в Москве будет, Циклер. Ведь это Петр Алексеевич ни много ни мало армию целую сколотил, чтобы стрельцам противустояла. Не обучены толком, говоришь. Не боги горшки обжигают. Недаром в пословице говорится: бей русского, часы сделает. А уж ратному делу бесперечь научится. И что же в самом походе случилося? Ты мне подробней расскажи — ведь государыне Софье Алексеевне пересказывать все как есть придется.
— Дело-то нехитрое. Построили Безымянный город. Его надо было стрельцам защищать. Князь Федор Иванович Ромодановский командовал потешными, которые город брали. У него четыре полка было, одним сам Петр Алексеевич командовать решил.
— Царская потеха, ничего не скажешь!
— Правда, что потеха. Раз стрельцов разбили 29 сентября, на преподобного Кириака-отшельника. Мало государю показалося. 4 октября, на священномученика Иерофея, первый приступ городка устроили. Два часа на валу сражение шло. Что народу поубивали да покалечили! Опять государю не показалося. 9 октября, на апостола Якова Алфеева, новую осаду начали. Через неделю, на присномученика Лукиана, вал миною взорвали и приступом городок взяли. Без убитых и раненых опять не обошлось. А уж лагерь, что за городком был разбит, 18 октября, на день апостола Луки, последним взяли. Вот и весь сказ. В тот же день помещиков да приказных по домам с похвалой отпустили. Кто жив остался.
— И дальше что?
— Да ничего. Разговоры такие пошли, что Петр Алексеевич решил с такими войсками на Азов идти.
— Когда, не слышал?
— Похоже, что скоро.
— Скоро… Должен ты мне, полковник, узнать, кого Петр Алексеевич намечает в Москве оставить, кому белокаменную поручит. Только чтоб верные сведения были, слышишь?
— Сам понимаю, государыня-царевна.
— Государь Иоанн Алексеевич ведь все равно здесь будет.
— Приготовиться, выходит, надо.
— Непременно. Только себя не выдай, Иван Елисеевич. Вон Петр Алексеевич сколько людишек вокруг себя сгоношил. Без роду, без племени. Он для них — один свет в окошке. За него в огонь и воду пойдут.
— За себя, государыня-царевна. За бывшего царя никто умирать не будет. Наш народ знать надо.
— Вот и знай на здоровье.
30 апреля (1695), на день памяти апостола Иакова Заведеева и святителя Доната, епископа Еврии, на площади Приказов в Кремле мужик закричал караул и сказал за собою государево слово, и приведен в Стрелецкий приказ, где в расспросе сказал, что сделав крылья, станет летать как журавль.
— Что же Циклер, Марфа? Куда подевался? Никаких новостей не несет?
— Потерпи, потерпи, Софьюшка. Иван Елисеевич мужик расчетливый. Вишь, из какого дела сухим вышел, а мыслям своим не изменил. И теперь все до конца вызнать хочет.
— Значит, все-таки собирается Петр Алексеевич в крымский поход. Не испугался голицынской неудачи.
— Какой крымский — к Азову пойти хочет. Крепость эту турецкую брать. Давно замыслил. Я так иногда думала, может, и Кожуховские дела устроил, чтобы глаза от морских своих мечтаний отвести. Помнишь, рассказывала я тебе — два раза на море Белое отай ездил, у Соловков чуть не утонул. Циклер полагал, придумывал, на каком море выбор остановить. От Белого отказался, к Азовскому направился. Мыслями пока. Да у него и до дела быстро дойдет.
— Скорее бы! Мочи моей нет в могиле этой сидеть. Настоятельница что ни день заходит, глазами зыркает — чем занимаюсь, не принимаю ли кого. С черничками словом перемолвиться не дает. Все о молитвах да епитимье поминает. О клавикортах просила — ахнула: в святой обители-то!
— Может, Катерина Алексеевна Петра Алексеевича попросит. Он к ней покуда милостив.
— К ней-то может быть, а для меня… Нет, Марфушка, не надо. Даст Бог, придет моему сидению конец, вот тогда… Веришь, мне по ночам мужик тот стал видеться, что крылья себе построить обещался. Федосьюшка рассказывала. Взлетел ли?
— Нет, Софьюшка, не взлетел.
— Что, денег на крылья ему не дали?
— То-то и оно, что дали. На одну слюду для крыльев рублей 20 отпустили. Боярин Троекуров с товарищами вышел глядеть, как все готово было. Мужик перекрестился обычаем, мехи велел раздувать вместо ветру, а крыльями взмахнуть не смог — тяжелы больно оказалися.
— На том все и кончилось?
— Да нет. Мужик заупрямился, да и Петру Алексеевичу любопытно больно стало. Еще денег добавил, чтоб крылья кожаные — иршеные[139] изготовить. И на тех мужик не полетел.
— И пошел на все четыре стороны.
— А ты бы, государыня-правительница, его так просто отпустила? Так вот назначили ему наказание — батогами бить без рубашки. Траты же все Стрелецкого приказа на нем доправить — имущество мужичье все до последней нитки продать.
— Вот тебе и сон мой вещий, Марфушка. Господи, к чему ты все это рассказала, и так на душе тошно.
9 декабря (1695), на день памяти Зачатия праведной Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу, и святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила, царь Петр Алексеевич, собираясь в Азовский поход, сидел с патриархом Адрианом в столовой патриаршьей палате с начала 5 часа ночи до 8 часа. Патриарх благословил государя образом Богородицы Владимирской.
— Царевна-сестрица, Марфушка, как Господь рассудил: вернулся князь Василий Васильевич Голицын из Крымского похода не солоно хлебавши, сам всего лишился и государыне-правительнице жизнь зачеркнул. А вот Петр Алексеевич еще хуже — осадил турецкую крепость, сколько людей положил, ни с чем домой вернулся, и все обошлось. Слышь, корабли теперь стоить принялися в Воронеже. К весне, толкуют, обратно под Азов пойдут. В чем причина-то, знаешь ли?
— Сама не пойму, Федосьюшка. Что я — стрелецкие полковники руками разводят.
— Да хоть Троекурова Ивана Борисовича возьми. Любимый сын, Федор Иванович, под Азовом голову сложил, а он будто и зла на Петра Алексеевича не имеет. А ведь как горевал, как горевал, чуть не о стенку головой бился, когда сынка в церкви Николая у Боровицких ворот отпевали. Святейший отпевал. Певчие станицы и патриаршьи и царские были. Пение дивное. А потом Петр Алексеевич сам тело в Ярославль повез, никому не доверил. И то правда, очень с молодым Троекуровым дружил. Так ведь дружба дружбой, а смерть смертью. Не воскресишь, как ни убивайся.
— Ты вот что, Федосьюшка, запомни. При случае Софье Алексеевне передашь. В келью к ней не ходи — на паперти все быстрехонько перескажи, чтоб никто не слышал. Более тридцати кораблей в Воронеже рубят по моделям, что генерал Лефорт из Голландии получил. На каждой галере по 22 орудия ставят. С моря Азов брать хотят.
— Да зачем это, Марфушка, государыне-правительнице? Будто она еще делами государственными занимается. В новой-то ее жизни зачем?
— Не жизнь это, Федосьюшка, не жизнь. Кто знает, может, и вернется еще Софья Алексеевна к власти, а тогда времени не будет во все мелочи входить. Тогда уж некогда… У тебя вот нет памяти на вирши, а я как сейчас помню: отец Симеон читал:
Благородная София царевна,
Госпожа княжна Алексеевна!
Пречестна дева и добросиянна,
В небесную жизнь Богом произбранна!
Мирно и здраво от Господа света
Буди хранима в премнога лета,
Убо мудрость есть, росски толкована,
Елински от век Софиею звана…
Паки тя молю деву благородну,
Да устроиши науку свободну…
Так что ты, царевна-сестрица, все как есть узнице нашей передай.
29 января (1696), на день памяти перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца, скончался царь Иоанн Алексеевич.
— Иванушка! Иванушка! Братец мой родимый! Как же это ты!
— Тихо, Федосьюшка, тихо. Чем громче плакать будешь, тем больше радости отродью нарышкинскому доставишь. Ты, чем плакать, на Петра Алексеевича с Натальей Алексеевной погляди. Чуть не смеются. К братцу-государю подойти не хотят.
— Нету сил моих, Марфушка! Уж какой братец был тихий да ласковый. Безобидный. Никого не обидит да и сам от обиды не защитится. Сторонился всех. Лучше ему было одному быть. В уголок свой уйдет, сидит тихо-тихо, мыслям своим улыбается.