Фигура фараона была огромна, его гордую голову с высоким лбом охватывала диадема, посредине которой красовались два золотых урея с коронами Верхнего и Нижнего Египта. Широкое ожерелье-воротник из драгоценных камней покрывало половину его груди, а нижняя часть была обернута широкой повязкой. Обнаженные руки украшали золотые обручи. Его красивое тело было словно отлито из бронзы, а гладкая кожа, обтягивавшая крепкие мускулы, тускло отливала медью.
Сидя в кругу приближенных, он отеческим взором поглядывал на своих сыновей.
Лев отдыхал, но и на покое это был лев, и все знали, как страшен он будет, если его могучая рука, мирно разламывающая сейчас лепешку, сожмется в кулак.
Все в этом человеке было величественно, но он не вселял в сердце страха, ибо хоть и властно сверкали его глаза, зато все лицо светилось удивительной мягкостью, а низкий голос, рождавшийся где-то в глубине его широкой груди и покрывавший порой грохот сражений, мог звучать ласково и сердечно.
Прекрасно сознавая свое могущество и величие, он тем не менее всегда оставался человеком, и ему не были чужды порывы простого сердца.
Позади Рамсеса стоял молодой человек и подавал ему чашу, предварительно сам пробуя вино. Это был Мена – возничий фараона и его любимец.
Этот человек был строен и силен, гибок и вместе с тем полон достоинства, а в его красивом лице с ясными глазами сочетались гордость и доброта. От него едва ли можно было ждать делового совета, зато он всегда оставался заботливым, смелым и преданным другом.
Ближе всех к фараону сидел его старший сын Хаемусет, недавно получивший высокий сан верховного жреца Мемфиса. Рамери, освобожденный из плена, куда он попал по дороге в ставку фараона, как самый младший, сидел в дальнем конце стола, рядом со своим братом Мернепта. [211]
– Да, конечно, это нешуточные обвинения! – сказал фараон, продолжая разговор. – Каждый из вас, обвинителей, говорит правду, но любовь ко мне вас ослепляет. Все, что сообщил мне о везире Рамери, написала в своем письме моя дочь Бент-Анат и доложил мне управитель конного завода Мена, не очень меня беспокоит. Я хорошо знаю Ани, – знаю, что, временно заняв трон, он бесцеремонно развалится на нем, но мы вернемся домой, и он вполне удовольствуется своим более скромным креслом. Великие планы и отважные подвиги – не его стихия; но для исполнения готовых предписаний он вполне подходит. Вот поэтому-то я и сделал его своим везиром.
– Но Амени, как видно, сумел разжечь в нем честолюбие и поддерживает его своими советами, – сказал Хаемусет, почтительно склоняясь перед отцом. – Глава Дома Сети – человек смелый и мудрый, к тому же по крайней мере половина жрецов на его стороне.
– Это нам известно, – спокойно промолвил Рамсес. – Жрецы невзлюбили меня за то, что я призвал к оружию крестьян, обрабатывающих их земли. Хорошенький народец они мне прислали! От первой же стрелы храбрость этих воинов улетучивается, как дым. Пусть они завтра охраняют лагерь. На это они еще пригодны, в особенности если растолковать им, что, захватив палатки, противник вместе с ними заберет и хлеб, и мясо, и вино. Вот возьмем Кадеш, тогда пусть храмы на Ниле получают лучшую часть добычи. А ты, мой юный верховный жрец Мемфиса, должен объяснить твоим собратьям, что если Рамсес берет что-нибудь у служителей богов, то вернет он им сторицей.
– Недовольство Амени имеет более глубокие корни, – возразил Хаемусет. – Твой могучий ум ищет и находит свои пути…
– А жрецы, – перебил его Рамсес, – привыкли наставлять даже царей. Что ж, я не прочь! Я правлю как наместник высшего божества, но сам я не бог, пусть даже они воздают мне божеские почести. Со смиренным сердцем я охотно передаю им в руки посредничество между моим народом и богами, а в делах людских я, разумеется, распоряжаюсь по собственному усмотрению. Но довольно об этом! Мне тяжело сомневаться в друзьях, я не могу обойтись без доверия даже несмотря на то, что когда-нибудь, возможно, буду обманут.
Тут фараон кивнул, Мена подал ему чашу с вином, и Рамсес осушил ее. С минуту разглядывал он блестящий сосуд, затем поднял глаза, в которых появился теперь суровый блеск, и сказал:
– А если они меня обманывают, пусть даже десять таких Ани и Амени захотят погубить мою страну… я вернусь домой и втопчу в песок этих презренных гадин!
Когда он произносил последние слова, низкий голос его звучал, словно голос глашатая, возвещающего о чем-то уже свершившемся. Он умолк, и в шатре воцарилось глубокое молчание; все замерли.
Но вот он поднял чашу и весело воскликнул:
– Перед сражением не должно быть мрачных мыслей! Мы покрыли себя славой; далекие народы испытали на себе нашу руку, на берегах их рек водрузили мы свои победные стелы, а на их скалах высекли хвалу нашим подвигам [212]. Превыше всех царей стоит ваш повелитель милостью божьей благодаря вам, его храбрым помощникам. Так пусть же завтрашний бой принесет нам новую славу, и да помогут нам боги поскорее окончить эту войну! Осушите вместе со мной чаши за победу и радостное возвращение на родину со славой!
– Победа! Победа! Да процветает фараон, да продлится его жизнь, сила и здравие! – раздались ликующие возгласы соратников Рамсеса, а фараон, спускаясь с возвышения, громко сказал:
– Отдыхайте, пока не зайдет звезда Исиды, а там помолимся вместе богу Амону – и в бой!
И снова раздались ликующие клики, а Рамсес тем временем пожимал руки своим сыновьям, подбадривая их ласковыми словами.
Двум младшим, Мернепта и Рамери, он велел следовать за собой, и все трое в сопровождении Мена вышли и направились в палатку фараона, которую охранял отборный отряд под командованием одного из сыновей Рамсеса. Впереди шли гвардейцы и придворные с жезлами, украшенными золотыми лилиями и страусовыми перьями.
Прежде чем войти в свою палатку, Рамсес приказал подать мяса и собственноручно накормил львов, которые позволяли ему гладить себя, словно кошки. Затем он заглянул в конюшню, похлопал своих любимых коней по красиво изогнутым шеям и блестящим крупам и распорядился, чтобы утром его колесницу помчали в бой Нуру и Фиванская победа. [213]
Войдя, наконец, в свою палатку, он приказал придворным удалиться. Затем кивнул Мена, велел ему снять с себя украшения и оружие и подозвал своих младших сыновей, почтительно стоявших у входа.
– Знаете ли вы, почему велел я вам следовать за собой? – строго спросил он.
Оба молчали. Рамсес повторил свой вопрос.
– Потому что ты заметил, что между нами не все ладно, – сказал, наконец, Рамери. – Не все так, как должно быть…
– А еще потому, что я хотел, – прервал его фараон, – чтобы между моими сынами царили согласие и мир. Завтра у вас будет довольно врагов, чтобы сразиться с ними, а вот друзей нелегко обрести, и слишком часто мы теряем их в сражениях. Тот из вас, кто падет в бою, не должен питать злобу к другому, пусть с любовью ждет он брата в потустороннем мире. Говори, Рамери, что посеяло между вами раздор?
– Я уже больше не сержусь, – ответил юноша. – Недавно ты подарил мне вон тот меч, что сейчас на поясе у Мернепта, за то, что я отличился во время последней стычки с хеттами. Ты знаешь, мы оба спим в одной палатке. И когда я вчера вынул мой меч из ножен, чтобы полюбоваться клинком искусной работы, то обнаружил, что это другой клинок, не такой острый.
– Я в шутку обменял мечи, – не выдержал смущенный Мернепта. – Но он не понимает шуток и говорит: пусть меч останется у меня, чтобы я мог хвастаться незаслуженным почетом, а он постарается добыть себе новое оружие и затем…
– Довольно, мне уже все ясно! – оборвал его фараон. – Оба вы поступили нехорошо. Даже в шутку, Мернепта, нельзя никого обманывать. Всего один раз сам я тоже поступил так и сейчас расскажу об этом вам в назидание. Моя благородная, блаженной памяти, мать Туйа просила меня, когда я первый раз отправлялся в Финикию, привезти ей камешек с берега моря близ Библа, куда волны прибили тело Осириса. Но я, на беду, совсем позабыл об этом. Лишь когда мы въезжали в Фивы, я вдруг вспомнил о ее просьбе. Легкомысленный, как все юноши, я подобрал с дороги камешек, сунул его за пояс, а когда мать спросила меня, привез ли я ей на память о Библе то, что обещал, молча подал ей камешек, подобранный в Фивах. Она очень обрадовалась, показывала мой подарок сестрам и положила его на алтарь со статуями предков. Меня терзали стыд и раскаяние, и в конце концов я тайком стащил камешек и бросил его в воду. Что тут было! Мать созвала всех слуг и учинила строгое дознание, допытываясь, кто похитил священный камень. Я не выдержал и признался ей во всем. Никто меня, конечно, не наказал, но более жестокого урока я не получал за всю жизнь! С тех пор даже в шутку я никогда не позволяю себе отступить от правды. Запомни, Мернепта, этот урок, преподанный жизнью твоему отцу! А ты, Рамери, возьми обратно свой меч и поверь, что в жизни слишком много больших и серьезных трудностей, и уже с ранних лет нужно учиться закрывать глаза на мелочи, если ты не хочешь стать таким же угрюмым и мрачным, как махор Паакер. А мне кажется, что ты меньше всего создан для этого. Ну, а теперь протяните друг другу руки.
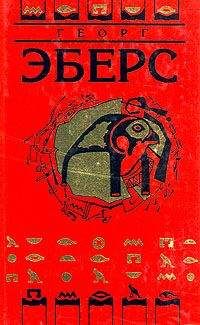
![Георг Эберс - Тернистым путем [Каракалла]](https://cdn.my-library.info/books/180336/180336.jpg)



