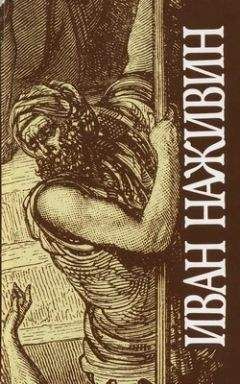— A-a-a… ppp… a-a-а…
Веспасиан, встав, подал знак молчать. Потом покрыл он свою тяжёлую седую голову краем тоги, как того требовал для молитвы древний обычай, а затем, ненавидя пресловутое красноречие, болтовню, из всех сил, сказал только несколько приятных слов калигатусам. И закончил:
— А после шествия, товарищи, пировать…
И среди несметных толп народа медлительно протекло пышное и пёстрое шествие. На бесчисленных колесницах везли произведения искусства из завоёванных стран, предметы роскоши, всякие диковинки, картины войны в её наиболее яркие момент, золотой жертвенник из храма иерусалимского, священную Тору и золотой семисвечник…
Иосиф Флавий в белой тоге с узкой пурпурной каймой обстоятельно объяснял всадникам значение этих вещей.
— Семь лампад светильника обозначают семь планет, — говорил он, щеголяя светскими манерами. — А двенадцать хлебов на этом золотом жертвеннике — зодиак и год. Курильница наполнялась тринадцатью разными курениями, взятыми из моря, необитаемых пустынь и земли обитаемой. Она указывает на то, что все исходит от Бога и все Ему принадлежит…
Затем шли толпы пленников, а впереди их в рубище угрюмый Симон бен-Гиора.
И наконец, за колесницей Победы — статуя была из слоновой кости и золота — в блещущей колеснице стоя ехали Веспасиан и Тит. Домициан на красивом жеребце гарцевал сбоку и все смотрел, достаточно ли любуются им римские красавицы, и намечал, каких он мог бы ещё изнасиловать…
И когда в торжественной медленности среди рёва толп проходило шествие мимо дворца Иоахима, Тит поднял глаза: на балконе стояла, одна, Береника. Лицо её было бледно, в душе была смута, но она не обнаружила её ничем, и, когда колесница триумфаторов приблизилась, она осыпала свежими розами тех, которые только что раздавили её народ, а может быть, раздавят скоро и её…
Народ ревел. Веспасиан ворчал сквозь зубы:
— Целый день потеряли на весь этот вздор… И в моем возрасте… Это нестерпимо глупо…
Тит едва сдерживал на эту воркотню улыбку… Шествие медленно докатилось до храма Юпитера Капитолийского. Вокруг на зданиях и храмах ещё виднелись следы копоти от недавнего позора. Здесь, по древнему обычаю, нужно было подождать, пока гонец донесёт о смерти вражеского вождя, то есть Симона бен-Гиоры. На него накинули верёвку, и стража, подгоняя плетьми, потащила его в тюрьму Carcer Maternius, которая возвышалась над форумом. Его убили и бросили труп с Тарпейской скалы. Гонец примчался к храму Юпитера и громко возвестил:
— Вождь врагов наших казнён!
Со всех сторон полетели восторженные крики…
Береники на пиру не было: она сказалась больной. Да она и была больна — если не телом, так душой. Она не спала всю ночь. Во дворце Иоахима все было оставлено так, как было тогда, во время брачного пира Язона… Томимая тоской нестерпимой, рано поутру, на свету, она вышла из дворца и розовым от зари, ещё спящим городом пошла куда глаза глядят. И вдруг увидала она себя в прекрасных Салюстиевых садах, неподалёку от мавзолея Домициев, где спал последним сном Нерон, Зверь…
Сзади неё послышались вдруг лёгкие, женские шаги. Она торопливо спустила покрывало и отступила за чёрные кипарисы: она не хотела, чтобы кто-нибудь увидал её тут. Ещё минута, и она увидела маленькую женскую фигурку. Она сразу узнала её: то была Актэ, которую она не раз встречала во дворце. В руках Актэ были дивные розы… Она подошла к пышному мавзолею и росистыми розами украсила урну из красного мрамора, прижалась к ней, точно в молитве, своим белым лбом и долго стояла так… А потом оторвалась, постояла и, потупив голову, тихо скрылась в садах…
«Но неужели же она любила так… и даже теперь любит… это чудовище?» — с недоумением спросила себя Береника.
Ответ дали ей свежие, росистые, благоухающие розы вокруг красной урны…
И она не могла отвязаться от видения этой маленькой женщины со своими розами на утренней заре в пустынных садах… Ничего не замечая, она снова медленно вернулась во дворец — там уже началась тревога о ней — и, все томясь захолодавшей душой, пошла роскошными покоями дворца, стараясь вызвать милую тень такою, какою она тут жила… И вдруг в глаза ей бросилась знакомая статуэтка: эта была та Венера Победительница, которую она подарила Язону на другой день его свадьбы… И на подставке угловатыми греческими буквами так же стояло горделивое: «Ксебантурула сделал».
Забыл Язон её тут или оставил умышленно?
И то, и другое было одинаково больно…
Нежданные-непрошеные поднялись в груди колючие рыдания, и красавица обняла прекрасными руками своими статуэтку и, прижавшись к ней лбом, горько-горько заплакала…
Филет тихо угасал. Никаких болей нигде он не чувствовал — по крайней мере, никогда он на них не жаловался, — а только слабел все более и точно просветлялся. С утра его переносили в огромную библиотеку, в которой он провёл столько милых, тихих часов, и он, глядя через огромное окно в лазурную бездну моря, ласково беседовал со своим учеником и другом Язоном. Часто приходил посидеть к нему и Иоахим, который постепенно сокращал свои огромные дела и, как всегда, находил большое удовольствие в речах угасающего философа. К удивлению всех все чаще и чаще появлялась около него Миррена. Сперва она точно чего-то стыдилась, но Филет был с ней так ласков, так иногда нежен, что она скоро привыкла к нему и с радостью, не допуская рабынь, служила ему сама. И раз, когда она зачем-то вышла, Филет взял руку Язона и с увлажнившимися глазами проговорил:
— Миррена возвращается к тебе. Ты не можешь представить себе, как я рад, уходя, видеть зарю твоего счастья!.. И ещё благодарю я богов за то, что они дали мне тебя другом на всю жизнь. Это было для меня всегда великим утешением…
У Язона перехватило горло.
— Мне тяжело, carissime, что ты говоришь так… Я уверен в твоём выздоровлении… Мы ещё почитаем с тобой, побеседуем…
— Нет, милый, лучше всего в жизни правда. Я ухожу… Боги были милостивы ко мне: я прожил жизнь недурно и с удовольствием. Были, конечно, и тяжёлые минуты, — тихо вздохнул он, вспомнив Елену, — но без этого никто не живёт на земле… Человек подобен нашей Этне, — указал он на сияющую в лазури гору, на вершине которой курился лёгкий дымок. — Он стремится в небо, но он прикован к земле. И иногда — помнишь тот страшный день землетрясения?! — даже и находясь головой в небе, он весь содрогается от земных страстей… А ту, другую гору помнишь?.. Та уже не знает никаких борений, никаких страстей, она уже победила все и ушла в пустыню неба… И я рад, — слабо улыбнулся он, — что я в жизни не шумел много…
— А о загробной жизни ты не изменил своего мнения, друг? — спросил Язон.
— Нет, милый… Ты знаешь, как люблю я благостного Эпикура. Но и он ошибался. Раз, в молодых годах, некий грамматик прочёл в его присутствии стих Гесиода: «Прежде всех вещей создан был Хаос…». Эпикур спросил: «Откуда же мог взяться Хаос прежде всех вещей?». «Это не моё дело, — отвечал грамматик, — это дело философов». И Эпикур решительно сказал: «Хорошо, тогда я пойду к философам». Но мы, увы, уже знаем, что идти к философам незачем, ибо и они также мало знают о начале всех вещей, как и грамматик. Напрасно и сам Эпикур написал такое множество всяких сочинений 6 том, чего знать нельзя. Посмотри, как много вокруг нас с тобой книг, но если сложить все то, что они говорят, то ты получишь…
— Нуль, — тихо уронил Язон.
— Вот, — с улыбкой подтвердил Филет. — Это единственное, что мы знаем бесспорно. Какой блестящий ум у Лукреция, а и он все пытается откопать что-то такое новое. Но все эти рассуждения эпикурейцев о четырех элементах, из которых состоит будто бы наша чудесная душа, только детская игра в бирюльки. Никаких атомов нет. И смешно было ему приводить двадцать восемь доказательств того, что загробной жизни нет, — пусть его противники дали бы только одно доказательство, что она есть. Но так как такого доказательства нет, то и нет надобности искать двадцать восемь доказательств противного. Мне всю жизнь был ближе Пиррон, который отрицал возможность всякого знания. Он вполне справедливо говорил, что утверждать нельзя ничего. Все, что мудрый может сказать, это: мне кажется, что это так… Все блаженство человека в спокойствии духа, а тщетные попытки проникнуть в тайну вещей не дают ничего, кроме смятения духа… Да, — вздохнул он тихонько, с ясной улыбкой. — Все, что говорят там эти тысячи книг нашей библиотеки, это всего одна фраза: я ничего не знаю и никогда ничего не узнаю…
— Вот и я всегда говорю Язону, что незачем столько читать и столько мудрить, — входя с прохладным питьём, проговорила Миррена. — Все, что нам нужно знать, нам открыто…
Здесь, в Сицилии, на солнышке, она поправилась, загорела и похорошела. И в глазах её, и на румяных устах все чаще и чаще зацветали улыбки. Иной раз слышался даже и греховный смех. Она спохватывалась, но снова забывалась в счастье жить и дышать, и опять звенел её смех…