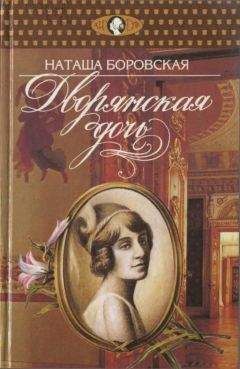— Не было никакой необходимости теснить наших хозяев, — упрекнула я Коленьку. — Я могу спать в любом углу.
— Я бы тоже могла спать на чердаке столько, сколько понадобится. — Веру Кирилловну невозможно было превзойти в покладистости.
— Не беспокойтесь, ваши превосходительства. Наш купец так напуган большевиками, что с радостью пойдет на любые жертвы ради нашего дела.
Нас приветствовала низким поклоном и реверансом на широком переднем крыльце своего белого деревянного дома почтенная купеческая чета. Каждый из супругов так соперничал друг с другом в проявлении внимания ко мне, что я заподозрила, что Коленька выдал меня за царскую особу.
Моя просторная спальня с камином и с иконами в углу выходила окнами на огород и фруктовый сад типичного русского провинциального дома. Мне прислали прислуживать молодого крестьянина. Поданная нам еда, приправленная свежим укропом, по местным стандартам была почти роскошной. Но лучше всего было то, что в гостиной стояло не слишком расстроенное пианино.
— У вашего высочества будет лошадь для верховой езды, — сказал Коленька. — Вы увидите, что никакие почести и никакое внимание в нашей Белой Ставке не чрезмерны для дочери генерала князя Силомирского.
Я напомнила Коленьке, что приехала не отдыхать, а навестить генерала Майского.
— Это все устроено, Татьяна Петровна. Вам только нужно представить в госпитале сертификаты на прививки. Однако мой вам совет: не ходите туда. У нас здесь такой веселый маленький городок: синематограф, театр, еженедельный симфонический оркестр, домашние вечера, разношерстное космополитическое общество. С тех пор, как освобожден Киев, все ликуют. Зачем посещать такое унылое место?
— Очень верный совет, — одобрила его Вера Кирилловна, а взгляд ее говорил: «Но я-то знаю, добрые советы для вас напрасны».
— Послушайте Коленьку, Татьяна Петровна, дорогая, — настаивала Зинаида Михайловна.
Я не ответила моим доброжелателям.
— Хватит об этом. Коленька, я хотела бы побеседовать с генералом Деникиным. Можете вы и это устроить?
— Слушаю и повинуюсь, ваше высочество, — Коленька звонко щелкнул каблуками, поклонился, взял конфету из рук матери, запихнул ее себе в рот, взмахнул рукой и с ревом уехал.
На следующий день утром я представила сертификат о прививках и противотифозный костюм в госпиталь-изолятор на окраине города и получила разрешение на визит.
Я быстро усвоила, что в Таганроге на все нужно разрешение. Чтобы преодолеть всю эту бюрократию, даже взяток и связей было недостаточно. Надо было быть, по крайней мере, таким же плутом, как Коленька.
Госпиталь был так переполнен, что больные лежали на соломенных тюфяках в коридорах. В палатах было негде ступить между койками. К счастью, в офицерской палате, где лежал Борис Майский, были кровати. Он был в сознании, но не подал никакого знака, что узнал меня.
Я положила руку ему на плечо и сказала:
— Борис Андреевич, дорогой, это я, Татьяна. Его вялый взгляд остановился на мне, а брови сошлись над крючковатым носом.
— Татьяна Петровна, это в самом деле вы? Может быть, у меня бред! Я слышал, что вы уехали в Константинополь. А вы здесь?
— Я приехала повидать вас, Борис Андреевич, поблагодарить вас, помочь вам поправиться, — я взбила подушку и поправила покрывало.
— Какое легкое у вас прикосновение! Я так счастлив, что дожил до встречи с вами! — он прижал мою руку к своим губам. — Теперь сядьте и расскажите мне вашу одиссею.
Я рассказала ему все, что помнила, спокойно и отрешенно. Все это уже в прошлом, подумала я с облегчением, и больше не будет нас тревожить.
— Какие тяжкие испытания! — сказал Борис Майский, когда я закончила. — Но главное, что вы целы и в безопасности. Я сходил с ума от тревоги за вас. Я получил деньги и документы в Петрограде, — он был готов в свою очередь рассказать свою историю.
— Это не к спеху, Борис Андреевич, не утомляйте себя. — Он был бледен и покрыт испариной, его всегда мелодичный голос был напряженным.
— Нет, я должен. Из Петрограда я отправился вверх по Неве, чтобы через наши связи в деревне достать продукты и моторную лодку, — он говорил шепотом. — На обратном пути на нас напали речные пираты. Семен и я, ограбленные и голые остались на берегу. Красные мобилизовали нас рыть окопы на Архангельском фронте. Спасли нас американцы. Мы чуть-чуть разминулись с бароном Нейссеном. Я слышал, что вы все еще были на даче, спрашивали обо мне. Я был обморожен, потерял три пальца, всю зиму пролежал в госпитале в Архангельске Весной, на британском корабле мы обошли Европу и высадились в Новороссийске. Меня приветствовали как героя Кронштадта. Попытку спасти князя Силомирского называли одним из самых значительных подвигов антибольшевистского Сопротивления, — он замолк, переводя дыхание, потом продолжил телеграфным слогом. — Сражался за освобождение Крыма. Здесь высадился в июле. Подхватил сыпной тиф. Вышел из строя. Был забыт. Это неважно. Теперь я могу умереть в мире.
— Вы не умрете, Борис Андреевич! Я заберу вас отсюда, хороший уход…
— Никто не вышел отсюда, кроме как в похоронную яму, Татьяна Петровна. Да это и не самый плохой путь уйти. Бывает хуже, гораздо хуже…
Я поняла, что если так трудно было навестить больного в изоляторе, то забрать его оттуда просто невозможно.
— Вы уйдете не в похоронную яму, Борис Андреевич. Я обещаю вам, по крайней мере, хоть это. Вам будут оказаны все воинские почести, как они были оказаны моему отцу.
Борис Андреевич слабо улыбнулся.
— А пока, — продолжала я, — я могу приносить вам еду и помогать ухаживать за вами. При хорошем уходе больные тифом выздоравливают.
— Когда они молоды, Татьяна Петровна. Не подвергайте себя опасности, посещая меня снова. Мне нужно совсем немного пищи, и обо мне заботятся как только могут. Смотрите, вот он идет, мой ангел небесный, — он указал на санитара в белом халате который, сияя, приближался к нам.
— Семен! — воскликнула я.
Семен схватил протянутые к нему руки и покрыл их поцелуями.
— Слава тебе, Господи! Какая радость для Его Превосходительства!
— Семен, дорогой! Благослови Бог твое доброе сердце! — я с нежностью смотрела на грубого ангела, посланного всевышним помогать всем забытым героям в эту зловонную палату, и подумала: «Ангелы рождаются не в раю, а в аду».
Я провела весь день у постели больного, а когда Борис Андреевич уставал, разговаривала с Семеном, вспоминая об отце, воскрешая его в нашей памяти. Вечером Майского стало лихорадить. Палата наполнилась звуками скрипящих кроватей, стонами и бормотанием. Ночью у больных наступал пароксизм, превращая самых тихих больных в бессвязно бормочущих маньяков, чтобы затем на рассвете оставить их неподвижно лежащими, со слабым пульсом.
Я поднялась, пообещав вернуться утром, но задержалась, увидя пристальный взгляд офицера на соседней кровати.
— Это вы, — пробормотал он. — Я не убил вас, какое облегчение!
— Их благородие застрелил сестру Красной армии в горячке боя. Его мучает воспоминание, когда у него жар. Боже, спаси его душу! — объяснил Семен.
— Вы были такая молодая, такая белокурая, совсем девочка, — продолжал офицер. — Вы бегали вверх и вниз по берегу реки. Вы были у меня на прицеле. Я нажал курок… это было так легко! Почему? Я был сам не свой. Но вы живы! Благодарение Богу! — Слезы бежали по его впалым щекам.
— Бог смилостивился, и вы, ваше благородие, можете отдохнуть, — сказал Семен, обтирая лицо офицера.
Дрожа, я быстро вышла из палаты.
Главный врач, мужчина средних лет с головой, коротко остриженной, как у германских офицеров, сказал мне, что забрать больного из изолятора нельзя даже по распоряжению самого Верховного Правителя. (Саркастические замечания об адмирале Колчаке были обычны в лагере Деникина.)
— Однако, раз вы надеваете противотифозный костюм, вы можете снова навестить больного. К несчастью, такие новшества нам не по средствам.
— Наверняка ваши британские союзники могли бы снабдить вас ими!
— Британцы не присылают даже современной военной техники, не говоря уже о медицинском снабжении! Еще есть вопросы?
— Еще один, последний. Какова у вас смертность, доктор?
— 99 процентов. Это чумной барак, а не госпиталь. Надеюсь, мне не нужно напоминать вам принять душ и вымыться зеленым мылом прежде, чем уйти отсюда? До свидания.
Уходя из госпиталя, я думала о белом офицере, оказавшемся убийцей, о Борисе Андреевиче — забытом герое, о Семене, довольном своей мрачной святой службой. Я думала о своей стране, погружающейся в темную эпоху, о человеческой дикости, происходящей от ужасов голода и эпидемий, и усугубляющей их. Я видела, что эта лихорадочная активность на этих провинциальных задворках, как иллюзорный проблеск здоровья на щеках чахоточного больного.