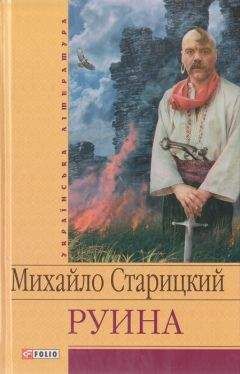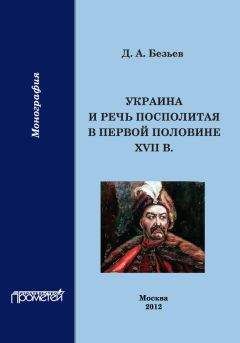Ознакомительная версия.
— Нет, я не дитя! — заговорила горячо Ядвига, и ее выразительные глаза заблестели. — Я умею привязаться горячо, безраздельно… Мне знакомы уже не детские, а глубокие чувства… мне знакома скорбь жизни, мне близко горе отчизны!.. Мое сердце рано начало отзываться на мирские радости и печали; но от этого струны его не ослабли, и, поверь, коханый мой друже, что они способны издать такой звук, какой ужаснет многих…
— Что за душа, что за сердце! — всплеснул Фридрикевич руками. — И для чего же мне такая щербатая доля?
— Да в чем же дело, мой любимый друже, мой рыцаре славный? — положила она ему на плечо свою руку. — Неужели ты не хочешь быть со мной откровенным? Неужели ты можешь от меня таить что-нибудь? Ведь это зрада дружбе… И за что? Я тебя с самого детства любила, мои первые мысли, первые чувства развивались под твоим теплым дыханием… а потом, когда ты уехал, — тоска без границ, без границ, без просвета… И вдруг неожиданная радость: я чуть с ума не сошла!..
— Довольно, довольно! Теперь моя очередь сходить с ума, если я не сошел уже прежде…
— Но ты мне скажешь причину…
Фридрикевич сидел, как на горячих угольях: лукавить перед таким чистым сердцем он не смел, во всем признаться — не имел силы, а прижать ее к груди, позабыв прошлое, — не имел права…
— Ты меня не любишь? — спросила глухо Ядвига, уставив на него сверкающие глаза.
Фридрикевич вздрогнул; он пуще всего боялся этого прямого вопроса и не сразу ответил…
— Говори прямо! — настаивала Ядвига.
— Не то, нет, не то, — забормотал он невнятно, — я не могу… не достоин сейчас тебя любить так, как нужно любить… неземное создание…
— Ты любишь другую? — перебила его с воплем Ядвига.
— Нет у меня другой! — простонал болезненно Фридрикевич. — Нет! Призрак… кошмар… он скоро пройдет… Не спрашивай пока, а пожалей!..
Ядвига закрыла лицо руками и уперлась локтями в колени, словно надавила ее какая-то чрезмерная тяжесть…
За ночь был исправлен мост, очищена дорога от груд мусора и развалин, осмотрены погреба и подвалы, обезоружены защитники крепости и заняты все башни, посты и бойницы воинством повелителя правоверных.
Когда на следующее утро поднялось из-за легких облаков над Каменцем яркое солнце и брызнуло алыми лучами на твердыни, то осветило на них не собольи шапки, не блестящие шлемы, а зеленые да желтые чалмы… Только на крестах храмов заиграло оно кроваво, а вниз словно не захотело и пробиться лучом, так как там творилось что-то недоброе.
Теперь уже совершенно успокоенный и огражденный от всяких случайностей, сам падишах открывал торжественное шествие в городе; хан, визирь, гетман и мурзы следовали за ним в прежнем порядке.
От самой въездной брамы вплоть до замка толпились за шпалерами гвардии падишаха местные обыватели, безоружные, трепетные, бледные; женщины, девушки, дети, полуживые от страха, были спрятаны в домах, чердаках и подвалах.
Блистательного повелителя встретила у ворот городская старшина со старостой и бургомистром во главе; староста подал падишаху ключи от крепости, все склонили колени пред белоснежным конем победителя, а остальные жители пали во прах, моля о пощаде.
Улыбнулся падишах довольной улыбкой, — льстила ему эта бессильная покорность, азиатская гордость владыки Востока была удовлетворена всласть, и падишах махнул милостиво рукой, прижав потом ее к сердцу, в знак того, что оно тронуто рабским унижением гяура и чуждо мщения.
Гетман смотрел на эту картину позора надменного, кичливого ляха, и в его груди шевелилось злорадное чувство; но вскоре к этому чувству примешался какой-то тайный укор, что унижение это разделяют вместе с ляхами и его братья по крови и по вере. Но гетман подавил в груди своей эту прорвавшуюся струю горечи и, подняв высоко голову, въехал победоносно вслед за владыками и их визирем в развалины брамы.
Но не успел гетман потешиться унижением врагов, не успел насладиться грезами победителя, как его сразило страшное зрелище, оборвавшее сразу все мечты его и надежды, оледенившее ужасом его сердце.
За брамой, локтей сто, не больше, въездная улица пересекалась поперечной, широкой, которая вела уже к комендантскому замку. Падишах поехал по ней, сопровождаемый победоносными криками своего воинства; но когда гетман повернул своего коня, то сразу остановился, словно пораженный громом: впереди перед ним вся улица была уложена святыми образами, снятыми и вынесенными руками басурманов из православных и католических храмов; лики угодников Божиих, великих сподвижников христианства, и Господа Сил, лежали ободранные, без риз, без украшений, в грязи и святотатственно топтались копытами коней. Увидя такое поругание святыни, гетман спрыгнул с коня, поднял первую искалеченную копытами икону с земли и приложился к ней побелевшими от внутренней боли губами… Но ближайшие мурзы заметали ему с гневом, что поступок его вызовет негодование падишаха, что никто из подданных не смеет раньше его останавливаться, вставать с коня и нарушать строй победоносного шествия.
Униженный, подавленный тяжестью собственных мук, гетман снова сел на коня, прижав поднятый образ к своей груди, но, несмотря на угрозы, не решился топтать ногами кощунственно то, перед чем умиленно склонял в продолжение всей своей жизни колена.
— Если вы топчете нечестиво чужую святыню, — произнес он дрожащим от сдержанного гнева голосом, — то мы, казаки, не примем участия в таком неслыханном грехе.
— Гяур! — прошипели с ненавистью мурзы и двинулись смело по деревянному помосту.
Гетман стоял неподвижно, мрачный, с искаженным от муки и бессильного гнева лицом. Перед ним проходили ряды пышно убранных коней с блестящими всадниками, за ними следовали сплошные ряды рыцарства, облаченного в сталь и железо, а там уже потянулись стройные колонны турецкой кавалерии и нестройные толпы татар… Гетман ничего этого не видел и не замечал; его взор был обращен внутрь, на сочившееся кровью, истерзанное ранами сердце, и только лишь слух улавливал треск от ломавшихся под копытами священных досок. Й каждый звук этих ударов железа о дерево пронизывал ножом сердце гетмана, заставляя его вздрагивать от этих ударов и обливаться новыми потоками крови.
Истерзанный нравственной пыткой, гетман не мог собрать своих разбежавшихся от ужаса мыслей: они то налетали на него бурным вихрем и кипятили мятежно его кровь, то оставляли его одного с непобедимым отчаяньем, леденившим ему сердце и мозг.
«Да, ты — Иуда, Иуда, Иуда! — звучал в его ушах какой-то внутренний вопль, зародившийся в тайниках его сердца и разросшийся до страшного крика в груди. — Тот предал за тридцать сребреников Христа, а ты во второй раз предаешь Его на поругание за свою гордыню! Но ты, кроме того, и Каин! Там призванные тобою союзники режут безнаказанно твоих братьев, и лучший твой друг проклял тебя и бросился умереть за них, а ты стоишь здесь у позорного столба, как преступник, и смотришь, как топчут в грязи все твои верования, все твои мечты и надежды! Мечты и надежды! — усмехнулся он горько, — их давно уже оборвали кровавые ураганы с моей души и рассеяли по этой ужасной руине как поблекшие, пожелтевшие листья. Давно уж стою я один, лишенный друзей и народа, стою на кладбище… О, как инстинктивно прав был народ и как я упорно, вопреки всем видимостям, тешил себя обольстительной ложью! Татары ведь были известны всякому на Украйне своим вероломством, своей продажностью и ненавистью к гяурам; почему же я вообразил, что турки, их братья, не будут на них похожи? Откуда я взял, что они будут хранить свято и нерушимо обеты, будут уважать Украйну, ее народность, ее веру, нравы, обычаи, и не только уважать, но и защищать их от всяких напастников? Вот оно, это уваженье и защита! Да, до такого зверского поругания не доходили вовеки татары: они грабили и жгли, как разбойники, жгли и хаты, и храмы Господни… но топтать икон не топтали и не издевались над святыней врагов!»
«Иуда, Каин! — гетману уже чудился крик разъяренной толпы, бросавшейся прежде радостно к нему навстречу. — Ты на обнаженную и облитую кровью страну привел еще полчище палачей–извергов, чтобы заклеймить последним позором свою умирающую от ран и истязаний мать Украйну и услышать ее последний стон и проклятие!»
В это время над головой Дорошенко раздался какой- то жалобный звук колокола. Этот звук пробудил гетмана от его терзаний и заставил поднять голову вверх. Теперь только он заметил, что стоял под низенькой колокольней, колокольня эта опиралась на четыре ветхих столба; сквозь дырявую, поросшую мохом кровлю ее светилось небо. Теперь на этой звоннице хозяйничали уже турки; они отбивали буздыганами скобы, какими были прикреплены к шатунам большие и малые колокола.
При каждом ударе буздыгана, а то и обуха раздавался резкий лязг железа и какой-то жалобный стон меди; но когда обух попадал не на скобу, а на стенки самого колокола, то он издавал такой пронзительный вопль, какой может вырваться из груди матери при последнем вздохе ее ребенка.
Ознакомительная версия.