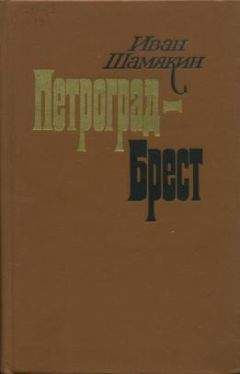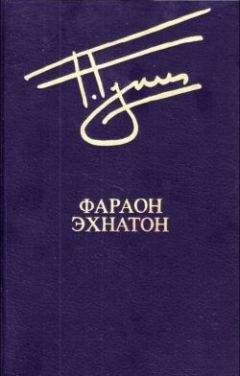Тихий Баранскас не побоялся попросить немецкого офицера похоронить агитаторшу отдельно от других солдат, закопанных тут же, на передовой, в братской могиле. Начальник похоронной команды, владелец похоронной конторы в Дрездене, был человек отзывчивый: на своей чуткости и доброте он умел неплохо зарабатывать до войны. Да и — во время войны служба в такой команде, кроме безопасности (не на передовой, не в окопе!), давала и кое-какую прибыль. Нет, он не мародерствовал, он никогда не позволял себе разувать или раздевать мертвых русских, но снять золотые крестики, кольца с офицеров, забрать портсигары, часы — разве это грех? Зачем они мертвым? С русской агитаторши, о которой немецкие солдаты рассказывали легенды, он не снял даже полушубка, хотя на этот счет был специальный приказ интендантской службы. Рассказы солдат, к которым она смело ходила, вызывали уважение к этой мужественной девушке, поэтому могильщик так легко согласился, чтобы семья начальника станции, неплохо говорившего по-немецки, похоронила ее отдельно, около своего дома. Полушубок сняли, когда обряжали Миру в последний путь.
Привезенный в лесничевку, Богунович узнал полушубок, и сначала это больно задело его. Полушубок был Стасе маловат, ее полная грудь распирала его, и это почему-то особенно оскорбило. Сдержал только вид этой некогда веселой женщины: Стася, как и он, была равнодушна ко всему на свете, как и он, была где-то за чертой обычной жизни, на пути в иной мир. А когда Бульба написал ему, оглохшему, на бумаге, кто и как похоронил Миру и что сотворили со Стасей немцы, Богунович вдруг упал перед ней на колени. Это ее сильно потрясло, но, как и просьба тяжелораненого: «Мама, дай напиться», вернуло к жизни. Стася впервые заплакала. Богунович тоже заплакал и почувствовал, как тает лед в душе. Вместе с ними плакал старый Калачик. Сурово молчал один Рудковский. А Бульба крикнул:
— Мустафа! Спирту!
— Нету, ваша бродь. Отдали раненым.
Когда Богунович немного отошел, Бульба написал ему:
«Оставайся в отряде. Воевать можно и не слыша. Мы бы с тобой еще кое с кем рассчитались».
Нет, он, Богунович, воевать больше не мог. Даже мстить за Миру, за Пастушенко не хотелось. Так и сказал Бульбе. Тот написал в ответ: «Размазня!»
Рудковский, Калачик и Стася решили, что контуженого командира полка лучше отвезти домой, к родителям, Минск же рядом. Стася сама напросилась проводить его, хотя Рудковский боялся: как она поведет себя, увидев немцев?
Сергей ехал в солдатской шинели; партизаны разведали, что раненых и контуженых солдат немцы не задерживают, помогают даже добраться домой, если они белорусы или украинцы; литовцев и поляков отпускали всех без исключения.
У Стаей шерстяные носки примерзли к сапогам. Богуновичу казалось, что примерзла к его худому телу гимнастерка; в окопах в самые лютые морозы так не мерз. На дворе оттепель, снег на станции почернел, а так холодно в этом проклятом вагоне!
Богунович был беспокоен всю дорогу, но, когда увидел знакомый с детства вокзал, его начало лихорадить. Стася, наверное, думает, что дрожит он от холода. Пусть. Пусть думает так.
После всего пережитого Стасе казалось, что ей нечего уже бояться, к тому же она понимала, что в большом городе опасности для нее меньше. Однако, увидев на вокзале в Молодечно немцев, она вцепилась в Богуновича, до боли сжала его руку: будто поддерживала, но он сразу сообразил, что инстинктивно женщина ищет защиты в нем. Грустно подумал: «Какой из меня защитник?!» Но тут же решил, что будет защищать ее ценой собственной жизни, зубами вцепится в горло, если кто-нибудь из этих зеленых насильников… Но, к их счастью, на вокзале легко можно было затеряться в толпе. Шум, сумятица, но — вокруг люди, свои люди. От этого появилась уверенность, ощущение безопасности. Мальчишки-беспризорники, шмыгавшие в толпе и шарившие глазами, где бы чем поживиться, показались до боли, до спазма в горле родными.
В конце концов состав остановился у товарной платформы. Их вагон очутился напротив большого пакгауза. На платформе высилась гора ящиков; рабочие-грузчики, человек шесть, относили их в склад. Но около ящиков прохаживался немецкий солдат с винтовкой на плече. Солдат подходил к самой двери их вагона. Они следили за ним в щель. Что делать? Ведь может получиться так, что состав двинется дальше, на восток или на юг, в неизвестную даль, и Минск, родной Минск, семья, мать, отец, снова начнут отдаляться.
Когда солдат отошел, Сергей тихо сказал:
— Если поезд пойдет дальше, будем прыгать…
Но Стася поступила иначе. Решительно отодвинула тяжелую дверь вагона, подхватила его и вынесла на платформу. Часовой смотрел ошеломленно, но тревоги не поднял. Мало ли их, русских, вот так приезжает? Его обязанность — охранять пакгауз. Удивило только, что двое грузчиков будто ожидали этих людей: выхватили солдата у женщины и, кажется, намеревались вести на вокзал. Да, у рабочих было такое намерение, но Богунович глазами показал им назад, в сторону Московской улицы. Они поняли. Несли почти бегом. Богунович, растерянный и взволнованный, не успевал перебирать ногами.
Забор, некогда отгораживавший территорию станции от улицы, почти весь был разобран: солдаты отапливали им теплушки, да и минчане приложили руки, потому что дрова неимоверно подорожали.
— Отвоевался, браток? Куда ранен?
— Он не слышит. Оглушило его.
— А-а, контузия. А ты кто?
— Сестра милосердия.
— Домой везешь?
— Домой.
— Доведешь одна?
— Доведу.
— Спасибо, товарищи, — сказал Богунович.
— Скажи ему как-нибудь, что с «товарищами» нужно быть поосторожнее. Счастливо.
— Всего вам хорошего!
— Какое там хорошее, сестра!
Они вышли на Захарьевскую. У Церкви слепых Богунович обессиленно остановился, в его простуженной груди даже забулькало от тяжелого дыхания. На испуганный Стасин взгляд виновато объяснил:
— Это моя улица. Я прожил на ней половину жизни. Стася взяла его под руку и повела. В этом конце главная улица Минска была еще пуста: редкие прохожие месили ни разу за зиму не убиравшийся, превращенный оттепелью в кашу снег. Но у гостиницы «Бельгия» было уже довольно многолюдно. По очищенному здесь тротуару шли не простые люди — господа: барышни прогуливались с немецкими офицерами.
Стася почувствовала: здесь, на минской улице, страх ее перед немцами почти исчез, но ненависть росла — и к ним, к немцам, и ко всем, кто вместе с ними.
У Красного костела Богунович вдруг остановился, бледный, прислонился к решетке церковной ограды — чтобы не упасть. Стася крепче сжала его руку.
— Что с вами? Что вас испугало?
— Вы слышите? — взволнованно спросил Сергей. Она уже несколько минут слышала, как где-то там, в стороне вокзала, цокают копыта множества лошадей.
И больше ничего, кроме голосов людей, проходивших мимо.
— Лошади! Вы слышите лошадей?!
Сергея испугало цоканье, оно показалось галлюцинацией: кроме двух извозчиков, стоявших неподвижно около «Бельгии», лошадей нигде не было видно. Но через минуту с Михайловской на Захарьевскую ровными шеренгами, медленным шагом выехал эскадрон улан. В красивых мундирах, с киверами, у офицеров сияли эполеты, юноша горнист высоко поднял красно-черный штандарт.
Странно смешались чувства у бывшего командира полка. Стало страшно от этой силы, от вида мордастых солдат, сытых лошадей. И без того воспаленный мозг пронзила мысль, что с такой силой немцы смогут ходить, ездить здесь, по Захарьевской, по всему Минску, по всей земле очень долго… Что против такой силы сделает какой-то отряд Рудковского или Бульбы? Мысль была кошмарной.
Но вместе с тем появилось нечто иное. Он слышал цоканье копыт по мостовой. Что это? Больное воображение? Или к нему возвратился слух? Да, он слышит! Это же чудо, божий дар: как только очутился на улице, где все такое знакомое, такое родное — вернулся слух!
«Мама! Неужели я услышу твой голос?»
Стало до слабости радостно.
Эскадрон скрылся за поворотом. А Богунович все еще стоял, побелевший, онемевший, и слушал уже не цоканье подков, а удары пульса в висках, шее, пальцах рук.
— Что с вами? — повторила Стася, испуганная его состоянием. — Вам больно?
Будто сквозь вату, которой набиты уши, услышал он эти слова: «Вам больно?» Но, может, он прочитал по губам ее? Отдельные слова еще там, в лесу, в отряде, он угадывал по жестикуляции, по выражению глаз.
Однако же и подковы, и ее голос…
Он схватил Стасины руки, горячо зашептал:
— Скажите мне еще что-нибудь!
Двое господ, проходивших мимо и услышавших его слова, оглянулись и засмеялись: странный солдат — на «вы» с бабой, которую, кажется, вообще не нужно уговаривать.
— Что же мне вам сказать, горемычный вы мой?
Нет, такую фразу по жестикуляции прочитать нельзя!