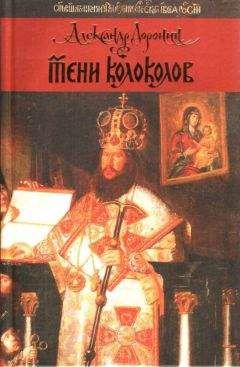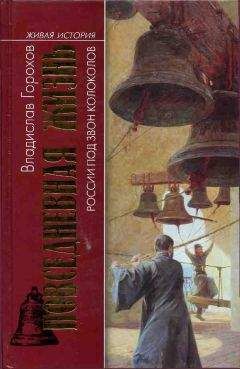Толстобрюхий палач взял сыромятный кнут, попятился назад и, со всей силой размахнувшись, ударил по голой спине. Красно-багровая полоса засверкала, из нее алой струйкой брызнула кровь. Палач снова замахнулся кнутом — вдоль полоски ровнехонько другая пролегла: словно полосы на ремень резал. Знал свою работу! Третий, шестой, восьмой удар… Степан молчал. От крови намок кнут, превратился в мочалку.
— Будешь говорить-то? — после каждого удара спрашивал Алмаз Иванов, сам чесал свою тонкую шею, как будто по ней муравьи ползали.
Степан словно воды набрал в рот, Фрол не смотрел на брата, дрожа от каждого услышанного удара, только крестил свой лоб и грудь.
Степана наконец спустили на пол, облили холодной водой. Вместо него подняли на дыбу Фрола. Тот сразу же зарыдал.
— Терпи, брат, — застонал Степан. — Ты ведь казак! Думай, что не больно — и всё. Они и бить-то не умеют, — лениво повернулся к палачам. — Эх, псы царские, лишь гавкать научились…
Фрол быстро поник головою, потерял сознание. Вновь принялись за Степана. Спиной привалили к жаровне.
— И-их! — крикнул он. — Давно в баньке не парился, теперь в самый раз, все косточки обогрею. Вот так, вот так… И-их, черные души! Жарить умеете!..
— Куда спрятал награбленное? Пошто царем назывался? Кого посылал к Никону? Что он тебе обещал? — всё спрашивал дьяк.
— Отстань от меня, черт рогатый, не приставай! Хоть спину спокойно погрею. Знал бы про такую баню, сам бы кое-кого попарил! И-их, как бы попарил…
Пытали до тех пор, пока сами палачи не упрели. Пытка не помогла узнать ничего, что интересовало Государя.
Алмаз Иванов вошел к царю с докладом. Уже с порога тот спросил:
— Сказывал разбойник, кто к Никону ездил?
— Пока молчит, вор разгульный! Но скажет, Государь, непременно скажет, — дьяк верил огню и кнутам.
— Иди да не забывай, о чем я просил: пиши про все злодейства разбойника, ничего не забывай!
Пятясь и кланяясь непрестанно, дьяк вышел.
Писать-то он писал, не ленился. Да вот беда, скоро и писать- то будет нечего. От разбойника одни издевки слышат, поносит он всех, с царя начиная. Другие же пленные на пытках боготворят, царем считают Стеньку Разина. В народе уже много песен о нем сложено. От Москвы и по всей Волге-матушке распевают.
У нас то было, братцы, на тихом Дону,
На тихом Дону, во Черкасском городу:
Родился удалый добрый молодец
По имени Степан Разин Тимо-фе-е-вич!
В тот же вечер атамана снова в пыточную притащили, привязали, постригли макушку и начали с потолка по капле воду лить. Этого никто не выдерживает, с ума сходят.
— Что, поволжская мордва своею волею за тобой пошла? — обратился к Разину Алмаз Иванов. — Алену-старицу бывший Патриарх к тебе послал?
— Кто это за человек, почему ее не знаю? Видать, сам сатана-царь ко мне ее послал, — криво усмехнулся атаман и начал петь.
Сверху, как горох, падали на макушку капельки, словно дыру сверлили. В ушах у Степана зашумело, в глазах поплыли черные тучи. Вдруг всплыло перед ним лицо жены, та к нему с вопросом:
— Как, Степа, думаешь, они выручат нас? Выручат, спрашиваю?
— Выручат, выручат!
Слово это Степан криком крикнул. Палач наклонился к нему, поднял за подбородок.
— Кто выручит? — скрючился дьяк. — Кто тебя, разбойника, выручать придет?
В лицо Алмаза Степан смотрел бессмысленным взглядом. Вдруг — ха! — плюнул.
— Царский прихвостень! Не боюсь я тебя! Не бо-юсь!..
Палач-детина кулаком его по лбу стукнул. Из разбитого носа хлынула кровь. Тело безвольно обвисло.
— Хватит, смерть сам себе приближает! — бросил дьяк и лающим псом закашлял.
* * *
На Красной площади повернуться негде — столько народу собралось. Пол-Москвы. Привели братьев Разиных, закованных в цепи.
За прошедшую ночь Степан собрал свою оставшуюся силу и теперь по площади, камнем обложенной, шел горделиво. Сам, без палачей, поднялся на эшафот. Алмаз Иванов начал читать сыскную грамоту:
— «Отчужденный от Бога донской казак-вор Стенька Разин! В прошлом году лета 1670-го ты, богоотступник, продал Государя Алексея Михайловича, на Дону и на Волге многу беспредельно людей поуничтожив…»
Дьяка слушали, затаив дыхание. На лице Степана и тени страдания не было. На ногах он стоял крепко, зорко глядел на народ. Кого-то увидел, по лицу его пробежало оживление. Заметили это и стрельцы, да разве среди тысяч собравшихся здесь найдешь его друзей — все в лохмотьях и лаптях, все одинаковы.
— «Ты, вор, многажды купцов вешал, многие города ограбил, из астраханской церкви князя Ивана Семеновича Прозоровского без воли вытащил и смерти предал.
Купцов и дьяков, не пошедших за тобой, взял да повесил на столбах вдоль грязной дороги. Дойдя до Саратова, ты, Стенька-вор, золотые припасы и хлебов амбары вычистил, всю семью воеводы Козьмы Лутотина уничтожил. Затем вновь двинулся на государевы войска, дошел до Симбирска, взял его. И там бесчисленные пагубы сотворил. Куда ни попадал ты, везде от тебя разор и воровство. И всегда бесстыдно врал, что с тобой митрополитом бывший Патриарх Никон…
За неверность к Государю, за великия хулы Москве и другим частям Всея Руси по указу царскому и бояр приговорен ты, вор Стенька Разин, к смерти позорной…»
Дьяк кончил читать, отошел в сторону. Один из палачей дернул Степана за руку. Тот толкнул его, повернулся к храму Василия Блаженного, перекрестился. Взглядом окинул высокие стены Кремля и заметил: на него с башни смотрит… Государь. Трижды народу поклонился, трижды во весь голос сказал что есть силы:
— Простите, братья, простите, люди русские!
Увидев своих друзей — Алексея Чухрая и Тикшая Инжеватова — моргнул им. Сам хотел лечь на плаху, но палачи к нему кинулись. Свалили, распяли за ноги, за руки. Коротко стукнул топор — правая его рука по локоть отлетела. Разин не застонал, лишь удивленно посмотрел на шевелящийся обрубок. Палач снова опустил топор, зловеще сверкнувший в воздухе. Гулкий удар — и правая нога отошла в сторону.
Степан смотрел в небо. Лицо его было белым-белым, по лбу крупными каплями катился пот.
— У-у, псы! — крикнул он кому-то.
Топор снова ударился уже о бесчувственное тело…
В Кремле вздрогнул Иван-колокол. Тугой волной покатился над толпой грозный гул. То ли людям грозил, то ли смельчака-казака отпевал. Мороз у всех по коже, слабые на колени пали.
На часах истории было 6 июня 1671 года. Светило над Москвой яркое летнее солнце, кому-то даря радость и утешение.
* * *
У Федосьи Прокопьевны на душе было пасмурно. Ее знобило при одной только мысли о царском гневе, который она навлекла на себя, не придя на свадьбу Государя. Алексей Михайлович и так зуб на нее имел. А теперь и совсем за человека перестал считать. Кроме всего этого, Федосья Прокопьевна продолжала поддерживать раскольников, дом свой превратила в подобие скита.
Как прижать эту ведьму, как чувствительнее наступить ей на хвост — вот над чем подолгу думал Государь. Вызвал Петра Урусова. Только тот вошел в царскую палату, Алексей Михайлович уже с порога его едким вопросом встретил:
— Ты мне служишь или своей родне и боярыне, которая царскую волю не выполняет?
Князь заморгал подслеповатыми узкими глазами, толком не понимая, о чем его спрашивают.
— Или Федосья Прокопьевна, ротозей, не двумя пальцами крестится? Не подчиняется тебе, единственному оставшемуся в роду мужику? Ты боярин, Петр Семенович, или теленок, привязанный веревкой? — Романов хоть и отчитывал Урусова, но верил ему, тот любимым псом около него всегда вертелся. Урусов побледнел.
— Где женушка твоя, Евдокия Прокопьевна, и она у сестры своей молится тайно?
— В эту ночь, Государь, она дома не ночевала, — растерянно молвил Урусов. — Взяла детишек — и в Приречье. Там должна быть…
— Там они, там, антихристы, — закивал Иоаким, архимандрит чудовский. — И она, Государь, Урусова, тебя не слушает.
— Думаю, это не так, — устало сказал Алексей Михайлович. — Прокопьевна душою добра, сестра вот ее, ту никуда не денешь, зла она на меня. Против судьбы оглобли поворачивает, непутевая… Да трудно ей против меня бороться! — И словно приговор подписал: — Последнее ее добро пущу по ветру! Морозова… Нашлась царица!..
Иоаким поклонился царю в пояс и с непонятной ухмылкой направился к двери. Урусов на пол присел у самого трона. Ноги от испуга его не держали.
* * *
Через два дня в Приречье с двадцатью стрельцами приехали Родион Сабуров и Иоаким. Вначале Федосью Прокопьевну спросили, как она крестится.
— А вот как! — она гордо перекрестилась двумя перстами. — Так мои предки делали, их каноны я не буду нарушать!
Собрали слуг — те также крестились двумя перстами. Одну, лет тридцати красавицу-женщину, смотревшую враждебно из-под опущенного на лоб черного платка, Иоаким спросил: