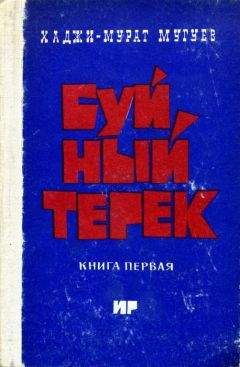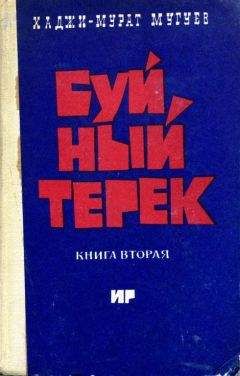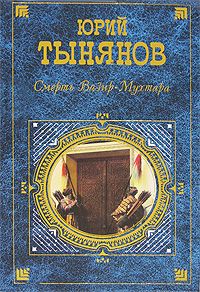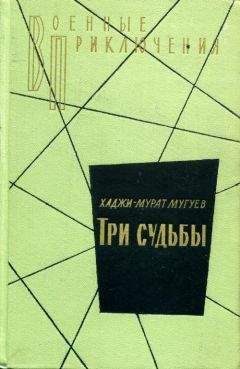Паскевич небрежно, чуть усмехнувшись, с коня оглядел поручика.
— C’est pour la première fois, que je vois une telle bande, comme ces vagabonds, nommés on ne sais pas pourquoi, les soldats, jetez un coup d’œil sur ce cous-officier bancal tapissé de décoration. Quels renseignements un tel rustre est capable donner aux soldats?[111] — кивнул на стоявшего поодаль Саньку Паскевич.
— Этот унтер-офицер, ваше высокопревосходительство, и есть тот самый Елохин, который на этих днях заколол штыком трех гвардейцев шаха и собственноручно захватил иранское знамя, — холодно пояснил Небольсин.
Паскевич посмотрел на него, затем перевел глаза на все так же свободно и спокойно стоявшего Саньку и молча пожал плечами. Он еще часа полтора гонял и мучил солдат перестроениями и шагистикой, но теперь свое раздражение и гнев перенес на нижегородских драгун, не умевших, по его мнению, даже как следует сидеть на коне.
— Чему вы учили ваших драгун? — с нескрываемым презрением спросил он командира полка Шабельского. — Ведь они не рубят, а только тычут шашками. Безобразие, а не полк!
Шабельский молчал. Он видел, что генерал зол, несправедлив и придирается к чему попало.
«Черт с ним! Увидит в бою, что такое мои драгуны», — думал он, продолжая молчать.
Часам к трем, утомив солдат, устав сам, распушив офицеров, не попрощавшись с солдатами и не сказав им ни слова, Паскевич прекратил учение и поехал обратно в лагерь.
Тифлис волновали два события: персы, уже подходившие к Елизаветполю, и приезд Паскевича, в котором многие провидцы уже видели нового хозяина Кавказа.
Местное общество во главе с шумной, болтливой и недалекой Прасковьей Николаевной Ахвердовой детально и оживленно обсуждало «за» и «против» нового генерала. И даже предводитель дворянства, недавний сторонник Ермолова князь Багратион-Мухранский на всякий случай явился с визитом к отъезжавшему на фронт Паскевичу. Старые сослуживцы Ермолова Похвистнев, Амбургер, Викентьев, понимая, что Алексей Петрович попал в опалу, «заболели», предпочитая переждать первые дни в стороне от событий.
Ермолов все видел, понимал и молчал. Победа в войне с Персией была его целью.
— Ваше высокопревосходительство, приехал генерал Давыдов, — входя к Ермолову, доложил Муравьев, оставшийся после отъезда Вельяминова за начальника штаба.
— А-а, приехал… Зови его, — обрадовался Ермолов.
— Здравствуй, Денис!
— Здравствуй, Алексей Петрович!
И они тепло обнялись, внимательно разглядывая один другого.
— Постарел ты, отец-командир, голова поседела, только глаза и голос все те же, молодые, — восхищенно сказал Давыдов.
— Где там! Укатали сивку крутые горки! — махнул рукой Ермолов. — Как ехал? Где остановился?
— До Владикавказа в коляске, оттуда на двухместной линейке, взял её у майора Огарева Николая Гавриловича. Помнишь его?
— Как же, начальник дороги. Ведь это у него во Владикавказе оставались чемоданы Грибоедова. Кстати, как он, когда будет в Тифлисе?
— На днях должен приехать.
— Ну, а что в Москве, долго ли двор останется в белокаменной? Какие новости?
Давыдов посмотрел на старого друга, и, отлично понимая его вопрос, сказал:
— Ждут победы. Государь послал Паскевича на время. Победа нужна царю. В дни коронации она будет звучать особенно сильно.
Ермолов молчал. Так прошла минута.
— Она, эта победа, еще больше, чем царю, нужна Паскевичу. Она поднимет его и свалит меня, но, Денис, нам с тобой дорога Россия. Помнишь, как сказал Петр накануне Полтавской битвы? — Ермолов прошелся по комнате. — «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, была бы только Россия в славе и благоденствии». Я оголил Тифлис, я дал Паскевичу все лучшее, что имел, во имя России.
— Противу тебя все, Алексей Петрович, и Нессельрод, и Бенкендорф, и немецкая партия.
— И царь, — добавил Ермолов.
— И он. Один только Дибич еще не перешел на их сторону.
— Перейдет и он. Дай только Паскевичу разбить Аббаса, и тогда они все запоют ему славу. Выезжай, Денис, завтра же к нему. Ты со своим опытом и храбростью будешь там очень нужен.
Войска отдыхали в тени садов, солдаты были сумрачны и усталы. Этот новый генерал не понравился им, как не понравились ему и они. Это было ясно всем. Драгуны, казаки, батарейцы, грузины и саперы — все были огорчены и расстроены сегодняшним знакомством с новым командиром корпуса.
Санька, угрюмый и нахмуренный, молча поел из котелка вместе с двумя солдатами. Он искоса поглядывал на Небольсина, только что вернувшегося от маркитантской повозки и что-то жевавшего на ходу.
— Вашбродь, не хотите ли нашего, солдатского? — сказал он, указывая на котелок, в котором исходил паром жирный бараний суп.
— А что ж, с удовольствием. Не помешаю, братцы? — спросил поручик.
— Садитесь вот туточка, вашбродь, здесь потенистей будет, — отодвигаясь в сторону, пригласил его солдат, сидевший рядом с Елохиным.
— Ты, Степанчук, беги к кашевару, скажи, нехай супцу нальет погорячей да мяса положит, скажи, его благородию, полуротному, — приказал Санька.
Молодой солдат подхватил котелок, выплеснул из него остатки супа и побежал к ротной кухне, дымившей в стороне.
— А что, вашбродь, недоволен остался генерал солдатами? Не понравились ему. Осерчал на всех, и на драгун, и на пехоту, а донцов так аж со смотра вовсе погнал. И чем это ему солдатики плохи показались? — спросил Санька.
— Не потрафили, — спокойно заметил второй солдат, — вот и осерчал.
— А ведь, вашбродь, нехорошо это, ведь сегодня-завтра бой, со всем персидским войскам драться будем. Как же это так, перед самым боем и так обидеть солдата… — покачивая головой, продолжал Санька.
— Доверия нету, команды, говорит, не знаем, вовсе вроде рекрутов, значится, оказались, — снова сказал солдат, сидевший возле поручика.
— Алексей Петрович доверял, князь Смоленский, царство ему небесное, — перекрестился Санька, — доверял. И Петра Иваныч и все прочие верили, а он не доверяет, — сумрачно сказал Елохин и покачал головой.
От кухни уже шел скорым шагом молодой солдат, ступая осторожно, чтобы не расплескать суп.
— Принес? Вот и гоже. Ешьте, вашбродь, на здоровье. Наш кухарь знатный суп сготовил, — подвинул солдат к поручику котелок.
Санька сорвал виноградный лист, тщательно обтер им свою деревянную ложку и подал ее Небольсину. Поручик с удовольствием стал есть густо наперченный и действительно вкусный суп. Он медленно пережевывал мясо, куски лаваша, не отвечая солдатам и думая о том, как же сам Паскевич не понимал того, о чем говорили сейчас эти простые солдаты. Как можно было оскорбить и обидеть солдатские души перед генеральным сражением, которое ожидалось с часу на час.
— Рассерчал генерал, а за что, бог знает, — пожал плечами подошедший сзади ефрейтор.
Солдаты после сытного обеда покуривали, с удовольствием глядя на обедавшего с ними офицера.
— Верно ли, вашбродь, сказывают, персюков очень много? — поправляя серьгу в ухе, спросил Санька.
— Тысяч сорок наберется, да ведь и под Шамхором его в три раза больше нас было, — ответил поручик.
— Ох, казаки на них злые. В том бою, рассказывают, много казаки денег да шелку с коврами захватили, а один донец, тот, который ихова командера заколол, одного золота фунтов пять забрал да князь Мадатов ему за коня с седлом опять же пятьсот ассигнациями отдал.
— Начнем бой, и на нас хватит, бей только, ребята, как следует, — сказал ефрейтор.
— Эй, нет. Казакам да драгунам лафа. Они конные, первыми до лагерей доскачут, а мы когда еще пехом доберемся, — ответил молодой, бегавший за супом солдатик.
— А ты, браток, не зарься на трофеи. Солдату они ни к чему. Я вон всю Европу прошел, и в Варшаве, и в Берлине, и в Париж-городе был, на шелку спал, бархатом укрывался, шенпанское, как воду, пил, а чего осталось? Солдатская слава да вот они, Егории, — потрагивая кресты, сказал Елохин.
— Передай голос — поручика, полуротного, к командиру, — послышались голоса.
— Вас к батальонному, — приподнимаясь с места, сказал Санька.
— Спасибо, братцы, за обед. Накормили так, как не едал уже месяц, — засмеялся Небольсин, обтер платком губы и пошел к видневшемуся вдалеке командиру батальона подполковнику Грекову.
— Александр Николаевич, идемте… командир корпуса ищет вас, — сказал подполковник.
— Паскевич? На что я понадобился? — удивился поручик. — Там военный совет, офицеры все рангом не ниже майора.
— Не знаю. Требует, и спешно, — пожал плечами Греков.
И они поспешили к большой двухстворчатой палатке, разбитой посреди тенистого сада.
Там была ставка Паскевича, и в ней происходил военный совет.
У входа в палатку стояли часовые, двое ординарцев, подальше виднелись конные драгуны и восемь пушек.