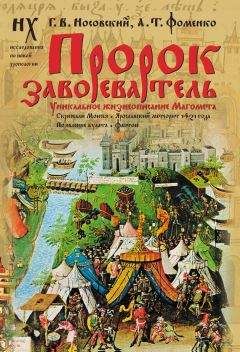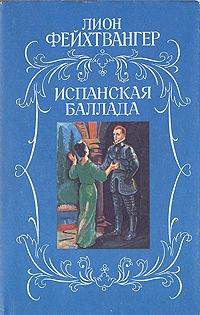— Мой покойный друг Иегуда часто бывал с тобой; вероятно, тебе известно многое. Я не хочу настаивать и выспрашивать тебя, старик, что именно тебе известно. Но меня гнетет мысль, что мой сын живет среди вас и я не знаю его. Ты должен это понять. Неужели ты не поможешь мне?
Тон его голоса был просительный, ласковый, это и льстило Эфраиму, и настораживало его. Опасную задачу возложил на него его покойный друг-недруг.
Эфраим сказал:
— Никому, государь, не ведомо и теперь уже никто не может разведать, причастен ли дон Иегуда Ибн Эзра к исчезновению своего внука. Ежели он и был причастен, то, конечно, привлек к такому щекотливому делу только одного помощника, и помощника надежного, не болтливого.
Альфонсо почувствовал себя униженным, уничтоженным. Но против собственной воли он продолжал разговор:
— Я верю и не верю тебе. Я боюсь, что вы мне все равно не скажете, если даже вам что-нибудь известно. Меня мучает мысль, тебе я признаюсь, что мой сын вырастет среди вас, примет ваш закон. Я должен бы вас ненавидеть за это, и порой я вас ненавижу.
Эфраим сказал:
— Еще раз спрашиваю я тебя, государь, тебе действительно угодно, чтобы человек, о котором ты так думаешь, улаживал в Севилье дела твои и твоего государства?
Король сказал:
— Бывало, я питал злобу и против дона Иегуды, и все же я знал, что он мне друг. Ты стар и многоопытен, ты знаешь людей и понимаешь толк в делах. Я хочу, чтобы ты отправился моим представителем в Севилью. Я знаю, что лучше тебя мне никого не найти.
Эфраим почувствовал жалость, смешанную с удовлетворением. Он сказал:
— Возможно, наступит время, когда объявится тот или другой и назовется твоим исчезнувшим сыном. Мой совет, государь, не утруждай себя зря. Вероятно, это будет самозванец. Предоставь нам разузнать правду и ко всем прочим твоим заботам не прибавляй еще и эту. Смирись, дон Альфонсо. У тебя хорошие дочери, благородные инфанты, которые в свое время станут великими монархинями. Твои внуки сядут на испанские престолы и с божьей помощью объединят государства нашего полуострова. — И он закончил свою речь неясными словами, но король понял его. — Дон Иегуда Ибн Эзра умер, его сын и дочь умерли. Если кто из его рода и уцелел — так это его внук. А дон Иегуда отрекся от ислама и возвратился в иудейство, в веру своих отцов, и это его завещание.
Дон Альфонсо понимал все значение того, что он предоставил улаживать последствия войны, которую проиграл, Эфраиму, еврею и купцу. Он отказался от опрометчивого рыцарского геройства, расстался с Бертраном, сказал прости своему прошлому, своей юности. Он не раскаивался, но почти физически ощущал отречение, пустоту.
Путь, на который он ныне вступил, не манил уводящими в сторону таинственными тропами, не вел в туманно-голубую мерцающую даль; трезвый и прямой, он неуклонно вел к честной и явной цели. Но раз уж он, Альфонсо, вступил на этот путь, он пройдет его до конца. Он сам наложит на себя цепи; ради сладостных его сердцу геройских подвигов не поставит он под угрозу горький мир, который взял на себя.
Он не спал всю ночь. Взвешивал, отбрасывал, снова взвешивал, решался, отбрасывал.
Решился.
С чуть приметной улыбкой сказал дону Родриго, что хочет восстановить епископства в Авиле, Сеговии и Сигуэнце и епископом Сигуэнцским надумал назначить его, дона Родриго.
Неприятно удивленный, Родриго спросил:
— Хочешь отделаться от докучливого пастыря? Альфонсо улыбнулся, на лице его появилось прежнее мальчишески очаровательное, лукавое выражение.
— На этот раз ты несправедливо заподозрил меня, досточтимый отец, — сказал он. — Я хочу не отдалить, а приблизить тебя к себе. Но, если я не ошибаюсь, по церковным законам нельзя, чтобы каноник непосредственно, без промежуточной ступени, был возведен на престол архиепископа Толедского.
Противоречивые мысли обуяли каноника. Его, дона Родриго, король хочет сделать примасом Испании! Да, он мог подать добрый совет, но о таком возвышении он, скромный человек, никогда и не мечтал; его очень удивило, что дон Мартин тогда опасался этого. Значит, отныне ему придется не только советовать и высказывать свое мнение, он должен будет распоряжаться самыми крупными денежными поступлениями, должен будет сказать свое веское слово, когда дело коснется войны или мира. Он был ошеломлен. Ему ниспосланы благодать и милость, но вместе с тем и тяжелое бремя.
Альфонсо видел, как взволнован дон Родриго, и полушутя, полусерьезно сказал:
— Правда, на несколько месяцев тебе придется уехать в Сигуэнцу[197], и я не буду видеться с тобой. Святой отец любит поторговаться. Не так-то скоро удастся мне убедить его, чтобы он дал тебе архиепископский паллий[198]. Но я к этому готов и, в конце концов, добьюсь своего. Я хочу, чтобы ты был в королевстве первым после меня, — продолжал он с мальчишеским упрямством. — Ты принудил меня отменить испанское летосчисление, и все же я хочу, чтоб ты был примасом Испании.
Муса был потрясен новостью. Родриго уедет в Сигуэнцу! Как-то будет житься во враждебном Толедо без защиты каноника ему, мусульманину? Опять станет он бесприютным, одиноким скитальцем. Голым и неприветливым лежал перед ним последний отрезок его жизненного пути.
Однако собственная печаль не заслонила для мудрого, знающего людей Мусы то хорошее, что принесет эта перемена канонику, и он нашел слова теплого участия.
— Многочисленные обязанности на новом месте быстро положат конец твоей аседии, угрюмому раздумью последних месяцев. Ты будешь принимать решения и вершить делами, от которых зависят судьбы многих. А эта работа, — продолжал он взволнованно, — я надеюсь, побудит тебя снова взяться за твою летопись. Да, достойный мой друг, — с задумчивой улыбкой закончил он, — тот, кто творит историю, испытывает соблазн писать ее.
И действительно, как только король предложил дону Родриго архиепископство, в душе каноника шевельнулся такой соблазн. Сперва король согласился на тяжелое бремя — на осторожного советчика Эфраима, а теперь по доброй воле ставит себя в зависимость от него, Родриго, невоинственного, миролюбивого человека. Только внутренне переродившийся Альфонсо мог сам навязать себе такую двойную обузу. А это сознание породило в душе дона Родриго слабый росток новой надежды и блаженное предчувствие, что вопреки его унылому мудрствованию в том страшном, что свершилось за этот год, был свой смысл. Но он запрещал себе давать волю этим ощущениям, он не позволял им складываться в ясные мысли, он не хотел пережить новое разочарование.
— Я даже не помыслю опять взяться за свою летопись, — запальчиво ответил он Мусе. — Я уничтожил весь собранный мной материал, ты это знаешь.
— Твоя академия может в короткий срок снова собрать нужный тебе материал, — спокойно ответил Муса. — Из моих материалов многое тоже может тебе пригодиться. Я охотно подберу их для тебя. Правда, сохранить с тобой связь будет нелегко, — продолжал он с померкшим лицом. — Кто знает, в каком уголке земли придется мне искать приюта, когда я лишусь твоей защиты.
Сначала Родриго не понял. Затем он поспешил успокоить друга.
— Что это ты придумал? Само собой разумеется, ты тоже поедешь со мной в Сигуэнцу.
Муса просиял. Однако правила мусульманской вежливости предписывали ему не соглашаться сразу.
— Не сочтут ли мое пребывание в сигуэнцском епископском дворце неуместным? Обрезанный домочадец вызовет немалое осуждение твоей паствы.
— Пускай, — коротко и угрюмо ответил Родриго. Широкая счастливая улыбка все еще освещала некрасивое лицо продолжавшего говорить Мусы.
— Позволь обратить твое внимание еще и на то, что теперь тебе особенно туго придется со мной. Ведь я не отступлю от тебя, пока ты снова не сядешь за свою летопись.
Уже сейчас, в Толедо, Муса подзадоривал друга и все время втягивал его в длительные историко-философские споры. Он стоял перед налоем, что-то царапал и бросал через плечо:
— Не случайно то, что нам, мусульманам, пришлось отказаться от Толедо, когда город был, можно сказать, уже у нас в руках. Наше время, золотое время нашего могущества, к сожалению, прошло, и внутренние раздоры, которые отозвали халифа накануне полной победы, еще не раз повторятся. Это так же непреложно, как математические законы Альхорезма[199]. Мусульманская мировая держава, при всей её внешней мощи, одряхлела, Она не прочна.
Как Муса и ожидал, Родриго пошел на эту приманку.
— Ты решаешься сказать, что ваше время прошло! — возразил он. — Но ведь вы победили! Наше войско уничтожено, ваша граница подошла к самому Толедо, наш гордый дон Альфонсо платит вам дань. — Он разгорячился: — Господство мусульман идет на убыль! Золотое время мусульман прошло! Три раза за последнее столетие выступали мы против вас с таким войском, какого не видел еще мир. Пятьсот тысяч христианских рыцарей погибли в этих крестовых походах и тысячи тысяч прочего христианского люда, не говоря уже о моровой язве, болезнях и нищете на родине у христиан. А святой град и посейчас еще, как и сто лет назад, в ваших руках. И ты жалуешься, что ваше царство приходит в упадок!