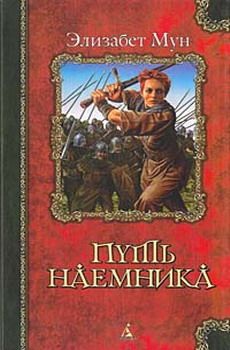В. Кондратьев
День победы в Черновe
Повесть
Можно будет, конечно, пройти туда тем старым и памятным большаком что идет от Селижарова на Ржев, по которому мы топали метельными февральскими ночами сорок второго года, или той, другой дорогой обратно, идущей от села Бахмутова, где находилась санрота, на станции Шербово. Дорогой, дневной, солнечной, но тоже незабываемой, пройденной уже в мае того же года.
И тот и другой путь необычны. Путь на войну — и путь к жизни. Всколыхнуть те неповторимые чувства очень и очень хотелось бы, но это добрые сотни километров. И как найти время для этого?
Дорога туда есть на карте, но я не знаю названий проходимых нами деревень — их просто тогда не было. Ветлы и черные трубы, как надгробия, — вот всё, что проплывало перед нами. И ни единого огонька за всю дорогу.
Только сейчас, рассматривая карту, я увидел, что вьется этот большак вдоль Волги, и стало понятным, почему фронт всю дорогу громыхал где-то близко от нас и — то спереди, то справа — зловеще полыхало небо. Лишь днём фронт умолкал.
Путь обратно я могу восстановить только частично. На чудом сохранившейся красноармейской книжке я написал тогда — Лужа, Фомичиха, Лужково, Бабино, Прямухино… Там же записан московский телефон — К-О-84-52… Чей он, кто дал мне его, видно, уже раненному, — не помню! Никакой фамилии нет. Наверно, мне было не нужно этого — я знал, кому и от кого я должен позвонить. Не осталось в памяти — звонил ли я, когда попал в Москву? Разумеется, звонил! Немог не звонить! Но в мае сорок второго ещё многие москвичи не вернулись из эвакуации, и, возможно, я никого не застал.
Прошло двадцать лет с той поры, но ожившая вдруг память возвращает мне всё, даже самые мельчайшие подробности тех дней… Вспоминается даже каждая рытвина на том поле, той страшной меже, отделявшей нас от тех трех русских, но занятых немцами деревенек, названия которых не забыть дo конца — Усово, Овсянниково, Паново…
Деревень, которые мы брали и… не смогли взять.
Первый бой… Их много прошло потом, но первый бой, как первая любовь, — навсегда.
Прошлое неожиданно приблизилось почти вплотную, и в сны, из которых уже давно ушла война, снова ворвались звуки боя, и даже запахи войны ночами ощущаю я.
Что же осталось у меня с того времени? Кроме красноармейской книжки, я нашёл потёртый личный медальон, похожий на футлярчик от губной помады, с пожелтевшей бумажкой внутри, где, кроме фамилии и группы крови по Янскому, нацарапано что-то карандашом, наверное, что-то важное для меня тогда, но теперь уже не поддающееся расшифровке; три письма оттуда; открытку от раненного в первом бою Мишки Помогаева, отправленную из госпиталя моей матери; несколько хрупких листков с короткими записями и несколько страниц, на которых я, будучи уже в Москве, пытался как-то запечатлеть то, что случилось с нами подо Ржевом в конце зимы и в начале весны сорок второго года. Записки сумбурные, неровные, с трагическими вопросительными знаками почти после каждой строчки: почему, отчего, как могло так случиться? Писались они в конце мая, то есть вслед за свершившимся, и на них не могло не сказаться моё тогдашнее состояние — подавленное, недоумённое, растерянное.
Но всё это мёртвое, это вещи… А мне сейчас просто необходимы живые свидетели. Те, кто был со мной там. И в первую очередь — Пахомов! Только двое осталось нас из пятидесяти младших командиров, посланных на фронт из нашего дальневосточного полка… Да, только двое. А после того, как меня ранило, Пахомов остался один. Он горьковчанин, влюблённый в Волгу, и потому я уверен, если он жив, то обязательно вернётся в Горький.
И в горьковское адресное бюро я послал просьбу сообщить мне адреса: Пахомова Александра, отчества не знаю, 1918 года рождения, и Чебакова Ивана, 1920 года рождения, тоже до войны проживавшего в Горьком.
И вот такой ответ я получил:
«Пахомов — адресов много, очень много, но с 1918 г. рождения уроженец Горького значится прописанным только один:
1) «Пахомов Александр Фёдорович, 1918 г., Сормовский р-н, Волжская улица, д. 1, кв. 19.
2) Чебаков Иван, 1920 г., - не прописан. Сведения на убывших хранятся в архиве адресного бюро не свыше трех лет».
Я сразу же послал радостное письмо с довольно глупым обращением: «Значит ты жив, Пахомыч!» — и с предложением съездить вместе подо Ржев, письмо, за которое потом было стыдно и ответ на которое я получил не скоро.
Даже то, что в Горьком не оказалось Чебакова, меня не очень расстроило: раз жив Пахомыч — найдется потом и Иван.
Нельзя сказать, что за эти годы я не вспоминал своих фронтовых товарищей — нет, вспоминались они часто, но предпринимать попытки к их розыску что-то мешало. Слишком долго не рубцевались раны войны у матерей и близких, и было страшно касаться их. Я хорошо помню, какую боль причинил матери погибшего Лапшина своим приходом к ней после войны… Тогда было как-то неловко, что ты вот остался живым, а многих твоих товарищей уже нет…
Письмо из Горького пришло, наверное, через месяц. Вот оно, привожу его полностью:
«Уважаемый товарищ! Да, я Пахомов Александр, да, я с восемнадцатого года рождения, но я не воевал — работал на Сормовском заводе. Но, возможно, вы разыскиваете моего двоюродного брата — Пахомова, тоже Александра?.. Он погиб. Посылаю вам его довоенную фотографию. Напишите подробно, что вы о нём помните: где учился, где работал? Может быть, это с ним вы воевали подо Ржевом.»
Фотография была очень бледная, маленькая, и в пареньке в белой рубашке я узнавал и не узнавал Пахомыча. Смущало то, что Пахомыч не курил, а у этого мальчишки торчала во рту папироска.
Я ответил подробно и вскоре получил письмо от старшей сестры Пахомова, в котором она писала, что её брат не учился в речном техникуме и что призван был в армию во время войны. Выходило, что это не мой Пахомов…
В Москве был ещё один человек, воевавший в нашей бригаде, — Саша Мовергоз. Я разыскал его без особого труда. Мы встретились, но ему не хотелось ни вспоминать, ни говорить обо Ржеве. Он сказал: «Я старался всё забыть. Как можно скорее забыть. И ты мне ни о чём не напоминай — не хочу».
И я не стал. Посидели в кафе, поговорили о пустяках и… разошлись. Видать, не всех томит фронтовая ностальгия. Может, они и правы!
Уже три года меня неотвратимо тянет поехать подо Ржев. Каждую весну я достаю карту и вымериваю расстояния, но всё какие-то мелкие, по существу, дела мешают мне совершить эту поездку. Мелкие по сравнению с тем большим, что было, и с тем, что я, несомненно, получу от свидания с прошлым.
Телефон, записанный на красноармейской книжке, тоже не дает мне покоя. Кем он мне дан? Кому я должен был позвонить?
Звонок в справочную ничего не дал. Разве возможно через двадцать лет, когда телефоны менялись не раз, ЧТО-либо выяснить, ответили мне. Единственное, что оставалось, — найти где-нибудь телефонную книжку тех годов, то есть довоенную. Стал спрашивать знакомых. У одного эта книга каким-то чудом сохранилась. Принес ее домой, перелистал и понял, что придётся внимательно просмотреть каждую страницу. Труд адский — и нужный ли? Но всё же в свободные минуты, которых, увы, так мало у нас, я листал эту книгу. Через месяц с лишним я наткнулся на этот телефон. Фамилия, которая там была, ничего мне не говорила так же, как и адрес. Но что-то ёкнуло в груди — теперь я могу надеяться, что узнаю, кто дал мне этот телефон, и узнаю судьбу этого человека. Я переписал адрес в свой блокнот и решил на днях туда сходить, тем более что это в центре города, невдалеке от моего дома.
К двадцатой годовщине начала войны я: ничего не сделал на Всесоюзную выставку и сейчас не спеша работал над плакатом ко Дню Победы. В эскизе он казался мне довольно впечатляющим; во весь лист, раскинув руки и широко расставив ноги, стоит солдат, закрывая собой почти всё поле плаката. Повторяя его, только чуть меньше, справа и слева — противотанковые ежи, а вдали — Москва. Солдат не реалистичный, а словно вырубленный из железа, человек-ёж, а надпись — «Отстояли». Он должен как-то перекликаться с военным плакатом «Отстоим Москву», но по манере, конечно, должен быть другим, более графичным и современным.
Делал я его урывками, перемежая с заказными работами и прошло недели две, прежде чем я собрался пойти по найденному адресу.
К дому в одном из сретенских переулков я подходил с каким-то странным чувством то ли робости, то ли ожидания чего-то необыкновенного (хотя что может быть необыкновенного?) и у парадного остановился выкурить папиросу и продумать; с чего же начать и что я буду говорить?
У двери несколько звонков и над каждым фамилия, но та, что была в телефонной книге, не значилась. Я ткнул пальцем в кнопку, что поближе, и долго ждал, прежде чем услышал шаркающие стариковские шаги.
— Кто там? — спросил из-за двери дребезжащий, шамкающий голос.