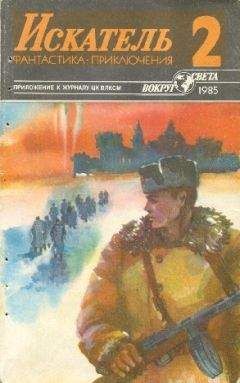Он положил на край стола стопку листовок и пошел в темноту коридора. Он был уверен, что листовки эти не останутся непрочитанными. Оказывавшиеся в подобных ситуациях солдаты обычно живо интересовались всем, хоть немного проясняющим их положение. Листовки всегда оказывались последней надеждой отчаявшихся, искавших спасения. Конечно, это были не те листовки, какие сейчас требовались, они не предназначались для юнцов, но других не имелось.
«Подумай о себе и о своей семье, — говорилось в них — Гитлер привел преступную войну в твой дом, он рушится от бомб, и под его обломками могут оказаться погребенными и останки дорогих тебе людей; бесчисленные вереницы беженцев тянутся из конца в конец Германии, матери разыскивают своих детей, дети в отчаянии зовут своих матерей. Подумай, солдат! И помни: немецкий народ не будет уничтожен В твоих интересах, солдат, скорейший разгром Гитлера, скорейшее окончание проигранной войны. Рви с Гитлером и сдавайся в плен! Время не ждет.»
Из темноты коридора они неожиданно вышли в широкий двор Звезды уже гасли на бледнеющем чистом небе.
— День — будет прекрасный! — сказал Штробель, оглядывая небо, глубоко вдыхая морозный воздух.
— Для кого как, — угрюмо отозвался Гюнтер.
— Для меня, для тебя, для всех сколько вас тут?
— Ишь чего захотел, — осклабился Гюнтер, и щеки его смешно надулись — Тыща нас тут.
— Это хорошо, если тыща. Целая тысяча молодых ребят, обреченных на смерть, сегодня будут спасены для будущей свободной Германии…
— Сорок восемь нас всего-то, — сказал шагавший сзади Алоиз.
— И сорок восемь немало. Тут сорок восемь, да там, да еще где-то. Глядишь, когда кончится война, в немецких городах будут и мужчины, а не только одни женщины.
— Разговорился, — буркнул Гюнтер, впрочем, совсем беззлобно, и ловко, как заправский солдат сдвинул автомат за спину. — Что-то еще Граберт скажет.
— Главное — что скажете все вы.
— А мы что? Мы — как прикажут.
Парнишка в такой же, как у Хельмута, длинной, стелющейся полами по земле шинели, к которому они подошли, встал со ступеней крыльца, потянулся, зевнул звучно. Все было непомерно велико на нем.
— Ну чего? — снова зевнул он.
— Фельдфебеля зови.
— Спит он.
— Так ведь только что не спал.
— А теперь спит. Будить не велел. Сказал, до вечера русские все равно не полезут.
— Имя! — требовательно спросил Штробель своим хорошо поставленным командирским голосом, которому, бывало, завидовали и старшие офицеры.
— Обер-ефрейтор Кунце! — вытянулся паренек.
— Я спрашиваю, как твое имя?
— Пауль.
— Вот что, Пауль, проводи-ка меня к Граберту. Дело неотложное.
— Да-а, он дерется.
— Как это дерется?
— Обыкновенно. У него плетка…
Штробелю хотелось смеяться. И плакать тоже хотелось. Солдаты! Вояки с мокрыми носами! Выпороть бы их, и делу конец. Мелькнула мысль: выбраться как-нибудь отсюда да уговорить советское командование оставить их в покое. Посидят недельку—другую, от скуки сами по домам разбегутся. Но уж не выпустят его отсюда. Остается одно: во что бы то ни тало выполнить то, зачем он сюда шел. Еще два часа назад думал о возможной смерти. Не первый он и не последний. Сколько погибло членов Национального комитета «Свободная Германия»? Сколько не вернулось бывших солдат и офицеров вермахта, попавших в плен и согласившихся возвратиться в свои части с русскими листовками?! Но теперь даже погибнуть он не имел права.
Штробель подошел к окну и сильно постучал кулаком по раме.
— Тут он?
Пауль кивнул и попятился от крыльца. За закрытой дверью что-то упало, послышалась ругань, и на пороге появился здоровенный парень лет восемнадцати в накинутой на плечи шинели. На голове его красовалась новенькая фуражка, снятая, должно быть, с какого-то эсэсовца: под серебряным орлом поблескивала кокарда — мертвая голова.
Все застыли на месте, когда он вышел, и даже Штробель опешил на миг: Граберт был очень похож на Гитлера, каким его рисуют на советских плакатах-карикатурах, — те же усики, те же блеклые выпученные глаза. Только косая челка, смятая во сне, топорщилась редкой щеткой. Он был смешон, этот карикатурный двойник фюрера. Но для запуганных мальчишек он, как видно, и такой был страшен: лица у всех — это Штробель заметил краем глаза — сразу вытянулись.
— Я что приказал? — спросил Граберт часового, похлестывая себя плеткой по голенищу сапога.
— Это я тебя разбудил, — сказал Штробель.
— С тобой разберемся. А дисциплина должна быть дисциплиной, и этот щенок свое получит.
Голос у него был хриплый, низкий, Штробель подумал, что взывать к его разуму совершенно бессмысленно и самое верное было бы просто застрелить его. Пистолет лежал в кармане, и он успел бы выстрелить раньше, чем Граберт расстегнет свою кобуру. Удержало не опасение за себя — могли изрешетить пулями на месте, — а сознание, что такая смерть Граберта многим показалась бы геройской смертью. И тогда все, с чем Штробель шел сюда, оказалось бы напрасным. И тогда боя не избежать.
— Фельдфебель! — повысил он голос. — Не забывайтесь! Перед вами лейтенант. Как старший по званию, я приказываю…
— Приказываю здесь я, — перебил его Граберт. — А с тобой… Еще неизвестно, кому ты служишь, лейтенант.
— Я служу Германии.
— А фюреру? — осклабился Граберт и победно оглядел всех. Он явно нравился себе сейчас, этот фельдфебель, и всячески хотел показать свое превосходство над ним, лейтенантом.
— Германия превыше всего, Германия! — сказал Штробель, радуясь тому, что разговор получался здесь, на площади. Хуже было бы в помещении, в присутствии только этого ублюдка Граберта да двух—трех запуганных им охранников.
— А ты кто такой? Почему ты тут? — спросил Граберт, словно только теперь увидел постороннего в расположении своего подразделения.
— Я пришел разъяснить ваше положение, спасти вас…
— Наше спасение в сопротивлении до конца. Так сказал фюрер.
— Фронт уже под Одером, под Берлином. Вы остались в глубоком тылу русских армий, и вам никто не поможет. Вы обречены…
— Три года назад наши войска стояли под Москвой, на Волге, на. Кавказе. Теперь русские наступают, но скоро они опять побегут. Фюрер обещал новое чудо-оружие…
— Фюрер, как всегда, лжет! — выкрикнул Штробель и оглянулся: возле него стояли уже не меньше десятка человек. И все они молчали, никак не выказывая своего отношения к публичному оскорблению самого фюрера.
— Я тебя расстреляю за такие слова, лейтенант! — прорычал Граберт.
— Ни тебе, ни обманутым тобою мальчишкам это невыгодно. — Штробель нарочито громко произнес последние слова, чтобы все слышали. — Этим вы подпишете себе смертный приговор.
Граберт переступил с ноги на ногу, сошел на две ступеньки и остановился, все еще возвышаясь над всеми. На смятом после сна лице его выразилось крайнее напряжение. Он мучительно думал, выдавая этим свою неопытность. Кадровый военный, даже если он в чине фельдфебеля, не позволил бы вести такую дискуссию перед своими подчиненными. У него хватило бы ума понять, что не для него предназначены эти слова. А Гра-берт думал, как поступить. И должно быть, пришел к выводу, что может взять верх в этой дискуссии.
— Фюрер — величайший пророк! — с пафосом выкрикнул он.
— «Я столько раз в своей жизни был пророком» — так говорил Гитлер, — подтвердил Штробель.
— Слова фюрера всегда сбываются! — обрадованно провозгласил Граберт.
Не подозревая, Граберт сам напрашивался, чтобы ему ответили в духе листовки, уже знакомой этим недоросткам-солдатам, той самой, которую недавно читал по «звуковке» старший лейтенант Карманов. Листовка эта, как и многие другие, была у него с собой. Он выхватил из внутреннего кармана шинели стопку бумаг, мигом отыскал нужную.
— «Я столько раз в своей жизни был пророком». Солдаты! Вам хорошо — известны эти слова Гитлера. Что. ж, возьмите и проверьте: оправдалось ли хоть одно из его пророчеств?»
— Арестовать! — крикнул Граберт, спрыгнув с крыльца.
Ствол винтовки уперся Штробелю в спину. У него выхватили листовки, выдернули из кармана пистолет. Но он знал листовку наизусть и, уже схваченный кем-то сзади за руки, выкрикивал фразу за фразой своим хорошо поставленным еще в офицерской школе голосом, заботясь только об одном — чтобы не сорваться на крик.
— Гитлер пророчествовал каждый год, и каждый год получалось наоборот!..
— К стене!
Граберт кричал истерично, торопясь и задыхаясь, видимо, поняв наконец всю опасность этого публичного спора.
Удар в спину прикладом был сильным, но не болезненным, не удар, а толчок. Штробель отбежал несколько шагов, но устоял на ногах, подумав, что не должен, ни в коем случае не должен упасть на глазах у этих подростков. Такой уж это возраст безжалостный, не сочувствующий униженным. Оперся руками о кирпичную стену, выпрямился и обернулся. Перед ним был только один, один-единственный солдат, толстогубый, остроносый. Он-то, видать, и был главным исполнителем приказов Граберта. Из-под каски, в которой прямо-таки тонула его маленькая голова, выглядывали пустые, ничего не выражающие глаза. Остальные — а было их теперь на площади не меньше двадцати человек — стояли безучастные, кто с испугом, а кто с любопытством смотрели на происходящее. Сумрак все светлел, и двор теперь просматривался весь, до самых дальних углов.