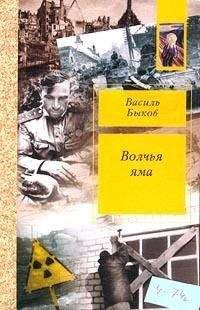— Эт! — пренебрежительно махнул рукой бородатый и поддернул штаны. — Какая это жисть! Разве это жисть? Днем бойся, ночью бойся...
— А чего ж он не возьмет оружие? Да не пойдет в лес? Чтобы не он, а его боялись?
— Во! Во! Во! — вдруг недобро закудахтала молодка и соскочила с саней. Отставив упитанный зад, сварливо выгнулась перед Антоном, замахала руками. — Во! Во! Я так и знала, агитаторщик! Он его соблазнять буде. И слушать не слушай его! Ого! В лес! А можеть, у него характер не той? А можеть, он убивать не хочать? Он тихий, он курицы не обиде, а то у лес!
— Да ладно ты! — лениво протянул молодой увалень, и щеки его покраснели, наверно, от этого непрошеного ее заступничества.
— А вот и не ладно! Тоже мне — партизанщик нашелся! — все больше распалялась молодка. — Сам, как недобитый волк, по лесу шастае и других сманивае. И еще хлеба ему давай... Иди, откуда пришел!
— Ма-аня, да стихни! — снова проворчал примак. — А то вот возьму и надумаю...
Маня на секунду оторопела.
— Ах ты, недоносок! Попробуй мне! Я тебе надумаю! Я тебе покажу! Давно тебя от Параски отвадила, так теперь в лес...
Начиналась семейная ссора, слушать которую Антон не имел времени. Воспользовавшись тем, что молодка переключилась на своего обожаемого, он повернулся и пошел прежним следом назад. Они там ругались, но он не оглядывался, он думал: странная это штука — война. Он давно уже не слышал такого вот сварливого бабьего крика и отвык от каких бы то ни было семейных отношений, почти уже забыл, как огорчали его частые ссоры матери с женой старшего брата, как они ремонтировали свою хату в местечке, меняли этот самый подруб и перекрывали одну сторону крыши дранкой. Последние предвоенные годы он метался по деревням, взыскивал с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб и на водку хватало. У него была масса знакомых в районе, не было отбоя от девчат, каждая из которых, наверно, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться он не спешил, ему хватало их без женитьбы, считал, еще успеется. Дома с небольшим хозяйством, коровой и огородом управлялась беспокойная, работящая мать, переночевать и поесть он мог в любой знакомой деревне, работу свою, в общем, любил, хотя она и доставляла ему немало беспокойства, но он чувствовал, что подходил к ней характером, не робел, как другие, когда надо было проявить твердость и взыскать с разгильдяев в пользу государства столько, сколько принадлежало тому по закону. Спуску он никому не давал, и его за это уважало начальство в районе, колхозники тоже уважали или, может, побаивались, но для него было одно и то же. Хуже было с теми знакомыми, которые от него не зависели и над ним не стояли, такие почему-то недолюбливали и сторонились его, но ему на них было наплевать, он с ними не знался. К тому же он имел собственную голову на плечах и не хуже других понимал, что хорошо, а что плохо. Не то чтобы он считал себя очень умным — просто он знал, что обеспокоиться общим делом найдутся десятки других, а вот заботиться о нем лично не станет никто, кроме него самого. Потому он старался поступать по своему разумению, насколько это, конечно, было возможно, и не терпел, когда его вынуждали поступать вопреки его воле. Правда, с началом этой проклятой войны все пошло вверх тормашками, все не так, как он думал. Но что он мог сделать? Началось с того, что как-то на исходе прошлой зимы в окно хаты Голубиных тихонько постучали ночью. Антон открыл дверь, и в кухню вошло человек шесть с оружием. В переднем он не сразу узнал районного начальника НКВД, с которым до войны был в некоторой дружбе, и думал, что тот теперь где-нибудь далеко на востоке. Но он оказался здесь и в тот свой приход предложил Антону вступить в партизанский отряд. Антону это мало понравилось, он уже примеривался к новой работе — механиком на лесопилке, но, прослышав, что в отряде много знакомых, решился, собрал «сидор» и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пущи. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, а потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось-завертелось: стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда и вот докатился до рядового, а теперь, словно оголодалый волк, как та молодка сказала, шастает по темным лесам.
Он размеренно шагал между сосен к оврагу, и в нем все росла подступившая к самому сердцу тоска по самой обычной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной обывательской жизни под крышей, своей семьей, с такой вот шустрой молодкой рядом, чтоб без страха, войны, крови — в добре и мире.
Но он только вздохнул на ходу — так это было далеко и несбыточно. Хорошо мечтать о такой жизни тому, у кого есть хоть какая-нибудь гарантия относительно жизни вообще — у него же не было даже такой гарантии. Не сегодня, так завтра горячая пуля распластает его на снежной траве, и дело с концом,
Хорошо, если похоронят по-людски. А то никто и не найдет, и он будет лежать под снегом до самой весны. Если оголодалые за зиму волки и лисицы не растаскают его длинные кости по своим лесным норам...
Зоську он увидел еще издали, та терпеливо дожидалась его на краю оврага, где он оставил ее, и Антон, остановившись, махнул два раза рукой — давай, мол, сюда!
7
Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим, нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой, саней отсюда не было видно, и он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок.
— Вот, разжился, — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. — Молодка не хотела давать, вредная баба. Едва выцыганил.
Зоська невольно сглотнула слюну, получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала.
— Вкусно как пахнет! — понюхала она хлеб. — Вот любила такой — на кленовых листочках. Мама пекла.
— Ешь! — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями.
Зоська наконец согрелась, идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарнике, она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру, в воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания, она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало, скорее наоборот — она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась — теперь она беспокоилась за Антона.
— Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду, — сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся.
— Зачем? Я проведу.
— До Немана, да?
— Там будет видно, — уклончиво ответил Антон, и она не стала настаивать — почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла. А может, и не хотела даже.
— Там приехали за сосной. На подруб, — кивнул Антон, слегка придерживая шаг. — Примачок такой и молодайка. Война, а они строятся.
— Да разве мало таких! Думают, отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют, — неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее.
— Оно конечно, — согласился он. — Да всем жить хочется.
Жить хочется всем, подумала она, но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, ни в чем не повинные, которых уничтожают только за их происхождение. Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, человек совершенно безропотный и безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи. Казалось Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму — в марте его уже арестовало гестапо.
Зоська до сих пор не может себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и с Зоськой при аресте — прощался, уходя навсегда, со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы.
Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи, под острым углом пересекавшими их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес, по обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно.

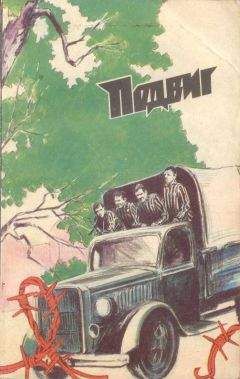

![Василь Быков - «Подвиг», 1989 № 05 [Антология]](https://cdn.my-library.info/books/143757/143757.jpg)