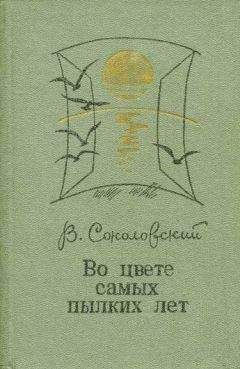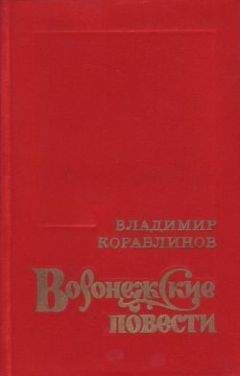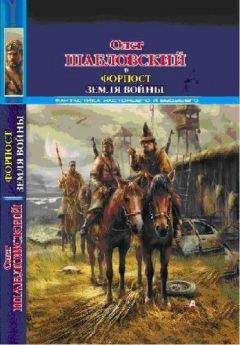Грише шел двадцать второй год, до войны он успел окончить семь классов и три курса радиотехникума. Школа радистов, работа у партизан, разведотдел. Мать (отец погиб на Волховском фронте), две бабки, дед, сестренки-близнецы, семиклашки, — все это далеко, на другом конце планеты, в тихом деревянном городке над Волгой… Там он когда-то с отличием окончил семилетку, уехал в Москву, в техникум. Ему нравилась спокойная, вдумчивая, сосредоточенная работа. И чистая. Вообще чтобы кругом была чистота. Он не был сильно брезглив, повидал на войне грязь, однако умел проходить мимо нее, не запачкавшись. «Гриша! — сказала ему как-то повариха в партизанском отряде. — Ты бы хоть влюбился. Красивый парень такой, кудрявый, а ходишь, словно свою антенну проглотил: прямой, строгий, со всеми на „вы“. Девушки обижаются. Что это ты — боишься нас, что ли?» «Нет, я просто не хочу и не смогу в этой обстановке, — признался он. — Мне кажется, если даже я встречу здесь девушку — красивую и соответствующую мне по душевным качествам, — я все равно не смогу в нее влюбиться. Хочется, чтобы все это было красиво, чтобы можно было хорошо одеться, пойти в кино, на вечер, потанцевать под патефон. Чтобы уж быть в уверенности, что ни ты ее, ни она тебя не оставит — по причине внезапной смерти. Понимаешь?» «Чистюля ты!..» — презрительно бросила ему девчушка и убежала. «Может быть…» — он пожал плечами.
Солдатом, затем офицером Гриша считался отличным: дисциплинированным, педантичным — из тех, на кого можно положиться в любых условиях. И смелым. У партизан случалось бывать во всяких переделках, и никогда к нему не было претензий. Однажды он даже заменил в бою убитого командира взвода. Имел награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» второй степени.
Капитан Мурашов, с которым ему предстояло выполнять задание, нравился Грише; даже окопная настороженность, объясняемая теперешней близостью к высокому начальству, даже оттенок пренебрежения, с каким Мурашов относился к Грише и Перетятько, называя их «генштабистами», не могли рассеять уважения, вызываемого к себе хмуроватым чернявым капитаном. Больше всего радиста удивило, с какой легкостью тот болтает по-молдавски. Молдаване, с которыми сводили его для проверки и практики, принимали Мурашова за своего. Прожив некогда в стране всего год, строевым командиром, он свободно овладел простонародным диалектом, со всеми замысловатыми оборотами, шутками, двусмысленностями. Конечно, Гриша в своей работе повидал людей, которые отлично говорили по-немецки и в этом смысле нисколько не уступали капитану. Но это были люди или выросшие в немецкой среде, или прошедшие специальную языковую подготовку. Сам радист считал себя абсолютно неспособным к языкам: пытаясь в свое время выучить немецкий, он затвердил массу слов, свободно стал переводить тексты, а разговаривать так и не смог научиться. Будто темная шторка висела в мозгу и задергивалась сама собой, лишь в дело вступал язык.
К утру нога одеревенела. Гриша не мог даже шевелить пальцами на ней. Лежал на спине и тихонько охал, задыхаясь от боли. Лишь только она стихала, он переваливался на живот и полз, ломая стебли, но скоро выбивался из сил.
Вдруг кукуруза зашелестела, затрещала; среди стеблей возник низенький, толстый, дюжий мужичок в красной рубахе, грязных желтых галифе, в постолах. Лицом он был обширен, одутловат, вид имел решительный и злой.
— Ун осташ рус? Чине дракул те-а адус пе лотул меу? Ян те уйтэ кытэ стрикэчуне мьай фэкут ын попушой! Да чине ва рэспундэ? Чине мь-а плэти пердериле, ей?..[5]
Гриша, опустив пистолет, повертел головой: «Не понимаю…» Мужик осклабился, наклонился к нему — и тотчас, упав на руку, стал выворачивать оружие. Отбросив его в сторону, выпрямился, самодовольно попыхтел; выдернул из штанов сыромятный ремешок, перевалил закричавшего радиста на живот и начал проворно связывать ему руки.
Затем он ушел, и вскоре явился с двумя стражниками; один из них взвалил радиста к себе на спину и под Гришины стоны и ругательства потащил к дороге, где стояла телега. На тряской дороге Гриша потерял сознание и пришел в себя только в тесном кабинете. Он лежал на полу, один человек сидел за письменным столом, а другой — обок его.
Сначала сидящий за столом стал что-то говорить — кажется, задавал вопросы; видя, что пленный безучастен, заговорил по-немецки. На нем была черная форма, петлицы, жгутик на плече. Гестаповец. Он сделал жест, и вступил второй — переводчик. Он сказал по-русски — с сочувствием:
— Как ваша нога?
— Болит… — морщась, прохрипел Гриша. — Дайте попить…
Немец кивнул. Переводчик бросился к радисту с графином и стаканом. Гриша попил, и ему стало легче, в голове просветлело, зато резче обозначилась боль в ноге.
— Я — гауптштурмфюрер Геллерт, — сказал немец. — Наше ведомство изъяло ваше дело из сигуранцы. Там, правда, тоже работают профессионалы, и неплохие, но долгое сидение в провинции сушит мозги, люди начинают лениться, допускают грубые просчеты, в итоге — терпят неудачи даже в несложных делах. Да и мы, честно говоря, теряем доверие к румынам, что-то они начали сникать, падать духом… Да… Так вы, как я понимаю, русский радист? Радист-разведчик?
— Да…
Геллерт погладил блестящий бок стоящей на столе рации. Голос у него был сильный, но интонации — не резкие, а доверительные. Переводчик же — в черных штанах навыпуск, в расшитой рубашке с витым шнурком на шее — говорил тихо, лез, что называется, в душу.
— Это отлично! Это отлично… Мне нравится ваше поведение. Не запираетесь и, я думаю, не будете лгать в дальнейшем. Впрочем, это было бы смешно! Вдруг человек, которого взяли с передатчиком, с парашютом, стал бы говорить, что он случайный прохожий или еще что-нибудь такое… А говорить правду в такой ситуации — это всегда умно.
— Ну ладно, — голова снова закружилась, и младший лейтенант с трудом произносил слова. — Допустим, что так… скажу вам правду… Или не скажу… Что это может теперь изменить? Наши скоро будут здесь. Все равно вам смерть. И ничего не зависит ни от моих ответов, ни от ваших вопросов.
— Можно предположить, что вы правы, — гестаповец похрустел пальцами. — Но неизменным должно оставаться наше отношение к долгу. Служебный долг есть служебный долг, мы не можем забывать о нем ни в каких обстоятельствах. Так что не будем отвлекаться и вернемся к беседе.
— Сначала доктора… Я… не могу.
Снова замельтешило перед глазами… Очнувшись, Гриша увидал стоящего перед ним на коленях и щупающего ногу старого человека в очках, в сером новом костюме. Пощупал, подавил, покивал, затем обхватил йогу за лодыжку, стал приноравливаться. Вдруг словно граната разорвалась в колене — Гриша вскинулся и страшно закричал. «Май ынчет… Май ынчет… Уйте-акум е бине…»[6] — бормотал доктор. Вскоре он ушел, что-то наказывая переводчику и униженно кланяясь немцу.
— Ну, как теперь? — спросил гауптштурмфюрер.
— Не знаю… Больно еще… но уже не так…
— Не волнуйтесь, самое страшное позади. А вы, наверно, думали, что мы только пытаем, избиваем, морим голодом и жаждой? Чепуха. Мы стараемся работать на сознательности, на взаимопонимании. И я, черт возьми, доволен, что вытащил вас из сигуранцы, разговариваю с вами, могу что-то сделать, в конце концов. Фамилия, имя, отчество?
— Ну, допустим, Кочнев, Григорий Алексеевич. И что дальше?
— Не врете? — немец подошел, наклонился, заглянул в глаза. — Будем думать, что нет. Сами же сказали, что нет смысла что-то скрывать, все равно исход войны предрешен. Нет, я доволен, доволен нашим контактом! Да вы меня буквально спасли. Если бы вы знали, что такое жить без настоящей работы в этом пыльном, убогом, кукурузой пропахшем городишке, среди грязных скотов, среди здешней пугливой и ничтожной аристократии, их визгливых, тупых жен и дочек! Изо дня в день одно и то же, одно и то же… Я начал уже бояться профессиональной деквалификации. Значит, фронт. Третий Украинский?
— Да.
— Ну, к этому мы еще вернемся… Цель вашей выброски — сбор информации о местности, войсках, вооружении?
— Очевидно.
— Но здесь же ничего нет! Ни железной дороги, ни даже речушки, чтобы заправить танки или машины. Гарнизона — кот наплакал, почти одни румыны да местные жандармы. Впрочем, этого-то вы как раз и не знаете, сколько и кого… Следовательно, разведка полосы наступления. Да или нет, отвечайте!
— Не знаю, меня в такие тонкости не посвящали.
— Так, так. Сколько вас было в группе?
— Я один. Больше никого.
— Ну, мы же, кажется, договорились, — скривился Геллерт. — Не делайте сейчас ошибки, лучше подумайте.
— Я был один.
— Гм… Шифры, частоты?
— Шифров нет. Открытый текст. А частоты… зачем они вам? Без моего почерка, моего ключа на них все равно появляться бесполезно. А я на вас работать не нанимался.