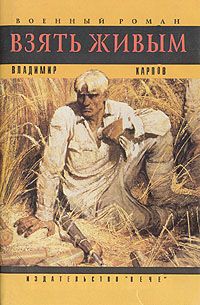Рассказ Пряхина ребятам понравился, они долго аплодировали. Потом та же девочка с косичками спросила:
— Скажите, правда ли, что умирающие на поле боя перед смертью шепчут имена любимых?
Ребята и даже педагоги неодобрительно зашикали на девочку.
— Нашла о чем спросить!
— А я хочу знать. Я об этом в книге читала, — смущенно защищалась девочка.
Кузьма ответил не сразу, подумал, потом сказал:
— Как тебе объяснить, милая, — не знаю. Умирают люди на войне просто: ударила пуля или осколок — и упал человек. А мы дальше идем вперед. Нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим… Одно знаю точно — лозунги и всякие речи, как это в кино показывают, они не произносят. Вот у меня на руках друг умирал, пожилой человек, бороду носил, а пришел конец — маму позвал. «Больно, — говорит, — мне, маманя». На том и погас.
Школьники проводили фронтовиков до ворот, целые охапки цветов надарили. Всю дорогу Василий и Кузьма раздавали эти букетики — кондукторшам в троллейбусе, девушкам в метро, милиционершам.
Однажды позвонил дежурный с проходной — вызывают капитана Ромашкина.
«Кто пришел? — думал Василий, быстро шагая через двор к воротам. — Знакомых у меня в Москве нет. Может, кто-нибудь из выпускников училища услыхал мою фамилию и решил навестить? А может быть, мама приехала?»
На улице Ромашкину приветливо замахала женщина, она стояла у детской коляски. Только подойдя ближе, Василий узнал ее:
— Таня?
— Я очень изменилась?
Таня теперь не была той девушкой, которую видел Ромашкин в сорок первом после парада, не было в ней ничего и от пожелтевшей, болезненной, какою встретил на фронтовой дороге под Смоленском. Перед ним стояла красивая, молодая женщина: полная, лицо белое, напудренное, карие глаза приветливо улыбались. От нее шло тепло и запах детского тельца, какие обычно излучает кормящая мать. В коляске сидел карапуз, он таращил круглые глазенки. «Где же я его видел? Откуда я знаю этого малыша?» — удивленно думал Василий. Он был уверен, что видит ребенка впервые, но в то же время личико это несомненно встречал много раз и прежде.
— Черт возьми, так это же Линтварев! — воскликнул Ромашкин, узнав наконец в коляске крошечного замполита. — Надо же быть таким похожим! Как с одного негатива отпечатаны!
— Точно, вылитый папа, — сказала Таня.
Ромашкин уловил в ее словах гордость и в то же время оттенок печали.
— Узнала, где стоит полк нашего фронта, думаю, схожу — кого-нибудь своих обязательно встречу. Спросил, кто из штаба армии? Никого. А из 926-го полка Линтварева? Сказали — капитан Ромашкин и Пряхин. Ну, Пряхина я не знаю, а тебя попросила вызвать.
Василий глядел на Таню и никак не мог смириться, что эта бойкая молодая женщина — та самая девушка, которую он одно время даже принимал за героиню. В Тане не было ничего общего не только с мужественной фронтовичкой, но и даже с самой Таней сорок первого года — строгой, немногословной, собранной. Теперь Таня не переставая говорила, она словно боялась: если остановится, то заговорит Ромашкин — и тогда придется слушать ей. И разговор у нее был какой-то «бабий» — про керосин, продукты, какую-то соседку, которая не была на фронте, но много болтает вздора про фронтовых жен.
— Ну, а с Линтваревым у тебя как? — спросил Ромашкин.
— Письма пишет, посылки шлет. Чуть не каждый день просит фотографии сына присылать. Любить Витьку. Мы его Виктором в честь победы назвали, — Таня кивнула на сынишку.
— Ну, а дальше как будет?
— Не знаю, Вася. Вот хочу с тобой посоветоваться. Я ведь одна с Витькой осталась. Отец погиб, мама умерла. Друзей на фронте побило. Огляделась вокруг — одни бабы. Ты да девчонки из штаба армии — вот самые близкие теперь.
— Что я могу тебе посоветовать? — сказал Ромашкин, подумав: «Совсем недавно был школьником, и вот уже за житейскими „взрослыми“ советами ко мне обращаются!» — Наверное, надо прежде всего думать о нем, — Василий погладил мальчика по теплой головке. — А почему ты не хочешь сойтись с Линтваревым? Он тебя не просто обидел, а полюбил ведь. И в сынишке души не чает, сама говоришь.
— Все это так, — задумчиво молвила Таня. — Но как вспомню его первую жену, так сердце переворачивается. Он ей тоже в любви клялся. А меня увидел — забыл. Значит, и со мной будет жить до первой встречной?
— Ну, это ты напрасно! — остановил ее Василий. — Есть недостатки у Линтварева, но чтобы за бабами волочился, такого я никогда не замечал. В этом отношении он строгий.
— А я?
— Что ты?
— За мной увивался.
— Полюбил, значит, всерьез, по-настоящему. Ты этого не допускаешь?
— Вроде любит. Жить вместе упрашивает. Но мне ту, другую, женщину жалко. И значит, соседка моя, склочница, права — мы у них на фронте мужей поотбивали? А я разве отбивала? Сам он навязался на мою голову.
— Ты мне рассказывала раньше — тоже его полюбила, он раненый был, культурный, обходительный, помнишь?
— Сперва любила. А потом возненавидела, когда узнала, что обманул. Ну, сказал бы он, что женат, ничего с собой поделать не может, ведь все по-другому сложилось бы. А он скрыл.
— У первой жены дети есть?
— Нет.
— Вот видишь, и это надо учитывать. Вообще многое переменилось. Теперь ты все знаешь, у вас пацан, Линтварев любит тебя и ребенка. Старая семья не склеится. Как видишь, все к тебе сошлось. От тебя зависит — быть вам счастливыми или нет.
— Почему ты его сторону держишь? — вдруг раздраженно спросила Таня. — Он тебя в штрафную роту упек, а ты его защищаешь!
— Совет просила, вот я и советую. Объективно, без своих обид. Да и Линтварев теперь не тот, он во многом изменился. Жизнь его пошкрябала, канцелярскую спесь в окопах пообдуло. Это тоже учти.
— Учту, — вздохнув, сказала Таня.
Они еще поговорили. Василий все смотрел на мальчика и поражался его сходству с отцом. Таня пригласила в гости к себе. Обещала еще прийти к Ромашкину, она жила недалеко. Он проводил ее до трамвайной остановки, поднял коляску на площадку вагона и, спрыгнув на ходу, помахал вслед дребезжащему трамваю. Вокруг сновали веселые, говорливые люди, девушки в цветистых платьях, смеялись школьники, перебегая улицу. Как это бывало уже не раз, Василий очень остро ощутил сладость простой мирной жизни: улица, ходят люди, мчатся автомобили и трамваи, казалось бы, ничего особенного, обычная будничная суета, но как она прекрасна! Как приятно видеть все это, ходить в полный рост среди людей, не опасаясь ни пуль, ни снарядов. Какое, оказывается, простое и непритязательное человеческое счастье.
Ночью полк разбудили дневальные. Именно разбудили, а не подняли по тревоге. Спокойно, негромко скомандовали:
— Подъем! Вставайте, товарищи. Будет генеральная репетиция.
Ночные подъемы прежде всегда происходили по взвинчивающему, будоражащему призыву: «В ружье!» Сегодня не надо было спешить, но срабатывала годами выработанная привычка: одевались быстро, бежали к умывальникам. Через несколько минут все были готовы. Собрались во дворе, а времени до построения осталось еще много. Закурили. Посмеиваясь, Кузьма сказал:
— Так вот и дома ночью толкнет жинка в бок, а ты первым делом в сапоги вскочишь!
Москва спала. Тихая, умиротворенная. Лампочки светились, убегая вдаль, вдоль тротуаров. «Как трассирующие пулеметные очереди, — подумал, глядя на них, Василий. — А круглые пятна света на дороге похожи на воронки, только белые… Так и буду, наверное, всю жизнь войну вспоминать».
Хотел Василий прогнать навязчивые фронтовые сравнения, но куда от них денешься, уж так устроен человек — все видит через свое прошлое, пережитое. Глядел Ромашкин на красивые высокие дома, широкие подметенные улицы, а вспоминались те, по которым шел на парад в сорок первом: скорбные улочки, холод, мрак, окна, заклеенные белыми бумажными крестами, дробный стук промерзших подметок по мостовой.
Вдали над входом в метро засияла большая красная буква «М». И тут же встала перед глазами Василия другая «М» — синяя, и вспомнились слова Карапетяна: «Это для маскировки, чтобы немецкие летчики не видели. До войны эти буквы были красные». И вот она, эта алая, сияющая буква «М».
Генеральная репетиция парада проводилась на Центральном аэродроме, что на Ленинградском шоссе. Асфальтированное поле размечено белыми линиями с точным соблюдением размеров Красной площади. Красными флажками на деревянных стойках были обозначены Мавзолей, ГУМ, Исторический музей, собор Василия Блаженного.
Войска, генералы перед строем, командующий и принимающий парад освещены ярким белым светом прожекторов. Под прямым ударом их лучей вспыхивали белым огнем ордена, медали, никелированные ножны генеральских шашек.
Когда рассвело, принялись за дело фотографы и кинооператоры, они сновали между рядами, выбирали особенно колоритных фронтовиков, благо было из кого выбирать, каждый сиял целым «иконостасом» наград.