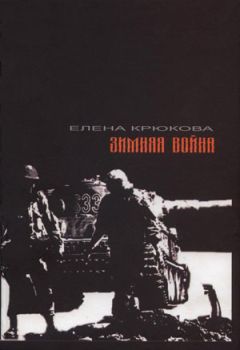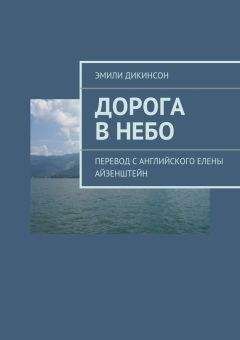Они качались друг в друге, как в колыбели. Я — твоя колыбель. Ты — моя колыбель. Кто над нами держал златые венцы в черноте тундровой, ослепительной, тюремной, песцовой ночи?!..
Они замерли в объятии. Дверь в спальню скрипнула. Человек в круглом золотом шлеме ступил на порог, неслышно вошел. Стася видела краем глаза, как он невесомо подходит к ним, обнявшимся, как поднимает для благословенья руку. Возлюбленный видит только тебя. Его лицо — напротив твоего лица. Он не видит человека в золотом шлеме. Он касается губами твоих губ. Как дать Отцу знак?!
Она чуть повернула на подушке голову. Скосила серые, прозрачные глаза. В ее зрачках горели свечи. Она спустила с кровати беспалую руку, протянула.
И Отец понял. Сделал шаг к ней. Беззвучно опустился на колени. Легче птичьего пуха прикоснулся губами к протянутой полудетской лапке с отрубленным пальцем. Стася почувствовала, как на ее указательный пальчик наползает холод венчального золота — одно кольцо, другое.
— Это тебе, жизнь моя, — прошелестел неслышный голос. — Мое… и Мамино. Я понял… я увидал все… и я пришел… ты должна…
Голос замер. Золото свеченья погасло. Не скрипнула дверь. Колокольчик, висящий над кроватью, молчал. В дымные белесые окна — то ли морозные, то ли туманные — глядел огромный парижский фонарь, и ему было века напролет все равно, кто кого целует, кто с кем расстается, плача, в одинокой ночи.
Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
Грохот сильнее. Грохот мучительней. Грохот чудовищней. Грохот!
Обвал!
Сердце мое!
Ты разорвалось.
Тишина.
Твоя Война закончилась.
Для Тебя.
Ты лежишь на дне пропасти, и звезды светят холодно и радужно со смоляных небес, и я сижу над Тобой, и голова Твоя — на моих коленях, и руки мои обнимают Тебя, и лицо мое восходит над Твоим недвижным лицом.
Ты упал в пропасть, а я сама спустилась к Тебе в черноту, сюда, на острые, как рубила, камни, занесенные снегом, и я сижу над Тобой, и я держу Тебя на руках, и я целую Тебя в холодное лицо, и я пою песню над Тобой.
Кто Ты мне?! Муж?! Сын?!.. Возлюбленный… Просто — солдат?.. и имени Твоего я не знаю… не помню… Я любила Тебя. Я люблю Тебя.
Мы одни на дне пропасти. Мрак. Мороз. Звезды неистово горят в бездонной яме неба. Горы стоят вокруг нас краями чаши. Мы с Тобой — Хлеб и Кровь. Мы — Причастие. Нас не найдут. Нас не спасут.
Я держу Твою любимую голову на моих коленях и пою, пою Тебе о том, что я, женщина, буду любить Тебя, солдата, всегда, даже если и горы рухнут на нас, и тела наши вороны исклюют, и косточки наши зимний ветер развеет.
И вокруг тишина, такая тишина. И уже не стучит барабан. Льдина утонула в Озере. Барабанщик утонул. Палочки утонули.
И Тень Стрелы Отца, видишь, прошла над горами, над Гольцом Подлунным, над синим льдом великого Озера.
Синева торжествующего зимнего дня обливала из опрокинутой кадки неба бычьи головы церквей, покрытые сизым слоем инея крыши домов-пряников, и незримая рука кидала, швыряла со стрех и куполов в бездну, в синюю высь ворон и сорок, и воробьев, и голубей, как крохи ржаного хлеба, и они рассыпались по небу, летели, умирая и падая камнем, и взмывали снова в небо у самой земли — они были птицы, они не могли разбиться. Рынок, рынок! Он гудел и плясал. Он катился под ноги упавшими с лотков солеными помидорами и золотыми заморскими дынями; он вихрился паром от клубней вареной картошки, посыпанной жареным лучком, перчиком, гвоздичным корнем, ломтиками чеснока, и торговки, катая картофелины на руке, гортанно кричали: «А вот картошечка горячая, без глазков, незрячая!.. Откусишь — рот обожжешь, до чего чеснок хорош!..» А рядом восточный черный человек, разламывая горским ножом красные гранаты, их темно-розовую кожуру и ярко-алые, кровавые зерна, блажил в нос, гундосо: «Вот он, вот он, свэжий, сладкий, плод заколдованный, приносящий лубов!.. Одно зэрнышко — под язык — и ты счастлив, молод или старик!..» Рынок пел песни, ругательные смешные частушки, и хохотал до упаду; рынок прожигал ненавидящими глазами воришку, норовившего урвать с прилавка кусок, шмат чужого — а воришка-то голодный, глаза впалые на изможденной роже горят безумьем, о, дай ты ему пожрать, жадная тетка с картошкой, кинь горячий клубень, пусть подавится!.. Рынок сверкал и взрывался гомоном и птичьим клекотом; пересмешками молоденьких шлюшек, ловящих себе поживу среди азийских торговцев, и жалобами-плачами старух, торгующих квашеной капустой из пропахших вечной кислотою бочек; рынок плакал и божился, рынок тащил на горбу ящики и тюки и тихо молился, целуя выпростанный из-под шубы, из-под овечьего тулупа нательный крестик: Боженька мой, сделай так, чтобы я продала тут все, что привезла, и чтоб меня не слишком ругал муж, и чтоб он не побил меня за то, что мало денег обратно с рынка везу; ведь я же не Царица рынка, меня тут забили, затерли, в дальние ряды отодвинули… а я все равно продаю свое! Бери мой товар, ты, с толстым карманом!.. Счастье себе купишь… не прогадаешь…
И это была зима; и где-то шла и гремела Война; а люди хотели жить, любить хотели, покупать на рынке вкусную еду, выпивать вино, играть в карты, обнимать друг друга, съезжать в санках с горок с визжащими и хохочущими детьми, и им плевать было на Войну, все от нее устали, утомились, и все равно уже было, идет она или не идет уже, а может, она умерла; а может, Зимняя Война — это такая выдумка, это страшная сказка; нет, это правда, моя мама погибла на каторге… мой брат — на фронте, в горах… а мой отец до сих пор в плену, в керуленских резервациях… а здесь?!.. а здесь — покой, красота, иней блестит, Солнце горит, рынок красными ракетами соленых помидор стреляет в синее небо! Налетай! Не зевай! Рот пошире разевай! На морозе намерзнешься — в баньке вдосталь попаришься! Эх, Русь наша, Русь, белый ты гусь!.. никакой Зимней Войны не боюсь…
— А кто это мотается возле ларьков с пивом?.. там, за черными бочками тетки Клавки…
— У, да это ж наша сумасшедшенькая, ты разве не узнал?.. Бегает тут, юбками трясет… Как не замерзнет в колотун такой в легкой мешковинке… Слушай ее!.. что она скажет — то сбывается…
— Она тут, часом, конец Войны не предсказала?.. если предсказала и все исполнится, я ей, право, Колька, шкалик беленькой поднесу… Самолично…
Румянец во все лицо. Сидит на косых дощатых пустых ящиках. Глаза косят: один — на нас, другой — в Арзамас. Поднесла горсть ко рту. Что в руке-то?.. А облепиха. Опустила в ягоды губы, весь рот окунула, как корова, что на водопое из реки жадно воду пьет. Жует сласть таежную. Лицо от ягоды отняла — рот измазан желтым, золотым соком. Улыбается. Глаза синие, яркие, поглядишь в них — и зажмуришься. У кого глазки-то взяла, дурочка?.. А у небушка!.. В небушке самолеты летают, бомбы на людей пускают… А я страха не страшусь!.. Смерти не боюсь!.. Лягу на снег, ликом кверху… за родную Русь…
Ваша Зимняя Война… мне и на. й не нужна… Растянусь я на снегу — покажу п…у врагу!..
— Што она выкрикивает, Манька?!.. Ох-хо-хо, умора!.. уморила… ее послухать — крепше водки в глотку смех зальет…
— Ах, миленькие, не проходите мимо, у меня капустка — наилучшая!.. с морковкой!.. с хренком!.. и с клюковкой, сама на болотах собирала…
Сумасшедшая была красива. Она была раскоса, это да. Как у зайца, косили ее глаза в разные сторонушки; но стрельчатые брови тьмой оттеняли прозрачную, пронзительную зимнюю синеву радужек, а румянец спорил с алостью губ, словно намазанных модной помадой, а на самом деле мороз и Солнце раскрасили простое и грубое женское лицо. Красива! И смела. Живет как хочет. Говорит то, что хочет. Вольна жить. Вольна умереть. Ничем не связана. Ничем не соблазнена. Идет быстро, как ветер летит. И тряпицы холщовой юбки мотаются за ней, как крылья старой птицы.
Спев матерную частушку про Войну, она пнула босой красной от мороза ногою ящик, на котором сидела, и пошла, пошла босиком по снегу, впечатывая в белизну узкие горячие босые ступни. Куда? Вдоль по рынку пошла. Оглядывать Царские владенья свои.
Она была молода? Стара? Седа? Хороша? Кто она была, вольная сибирская вьюга, летящая с Севера, из тайги, с Байкала, по рынку — насквозь — в широкое синее небо? Никто не знал, откуда она прибрела на рынок, почему с утра до ночи моталась и шлялась тут, и заделалась душою рынка, его диковиной, чудесиной. Она шла мимо всех богато заваленных снедью лотков и ларей, мимо всех туго увязанных мешков — с картошкой, с баклажанами, с орехами, с сырокопченой ветчиною, — мимо орущих торговок с грубо раззявленными в зазыве ртами и тонких девочек-монашек с медными копилками на животах, привязанными к рясам бельевыми веревками; в медный цилиндр, в прорезь, надо было опустить монету — на храм, на помощь бедным, на молебен об окончаньи Войны, и люди, покрестясь, подходили и бросали в дырку денежку, жалкое, щедрое пожертвованье. Мимо горок кислой клюквы с низинных ангарских болот шла она, мимо пучков черемши и дикого лука, мимо связок петрушки и сельдерея, мимо чанов с бурятским приторным густым, как деготь, топазовым медом, и ей все улыбались, и ей совали в ладошку картошку, хвостик черемши, монетку, кусок отломленных от рамы сот, и она запихивала сладкие соты в рот, и жевала тягучий воск, и улыбалась в ответ — беспутной, яркой, безумной улыбкой — на полмира. Она была хозяйка! Она, а не люди! Не торжники! Не лотошники! Не генералы! И не солдаты! А она, одна она.