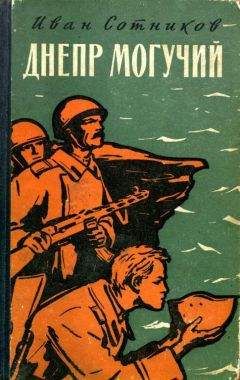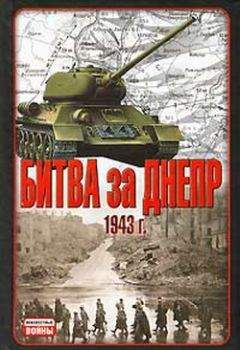— Здравствуйте, товарищ, — певуче ответила она, с особой нежностью произнеся последнее слово.
— Измучились вы, устали, — не отпуская ее теплой руки, сказал Васильцов.
— Нет, я ничего, — ответила Нина и, сморщив темное лицо, чуть слышно прошептала:
— Вот наши все — и Люся, и Тоня, и Борис, и Валя — все арестованы. Непонятно как-то, — виновато глядя на Васильцова, громче продолжала она. — Работали, все было хорошо, и вдруг вчера все провалилось. Люсю и Тоню — они были официантками — в столовой схватили, Валю на квартире, а Бориса — водовозом он работал — во дворе, только с реки приехал. Мне наш повар шепнул: «Убегай, Нинка, тебя ищут». Я через двор, в огороды выскочила, к Оке сразу, там в домике у одной старушки жила. Пробралась садом, посмотрела на домик и похолодела вся. Машина стоит, черная, гестаповская и эсэсовцы ходят. Куда деться? Я сразу сюда вот, к Ивану Семеновичу, — кивнула она головой в сторону сапожника. — Вот и сижу тут. А у меня же сведений много, утром вчера Борис передал, чтобы сюда, к Ивану Семеновичу отнести. Вот все написано тут, — протянула она Васильцову свернутую бумагу. — А на словах Борис приказал передать, что фашисты готовят наступление против партизан. Сам Модель, как говорят немецкие офицеры, руководить будет. Начисто грозятся брянские леса стереть и партизан всех уничтожить.
Васильцов развернул поданную Ниной бумагу и, вчитываясь в бисерные строки, еле сдерживал радость. На крохотном листочке были перечислены все немецкие воинские части и соединения, занимающие орловский плацдарм.
— Да это же, — не удержался он от восклицания, — да это же, Ниночка, такие сведения…
— Девушки наши — Люся, Тоня, Валя, — это они все выведали, а Борис собрал все вместе, — с едва заметной гордостью сказала Нина и, опять помрачнев, горестно добавила:
— Погибнут они. Замучают гестаповцы.
Васильцов хотел было успокоить ее, сказать, что еще не все потеряно и арест может быть случайным, но взглянув в ее влажно блестевшие глаза, не смог выговорить ни одного слова.
— Товарищ, — после горестного молчания робко спросила Нина, — а вы были там, за линией фронта, в Красной Армии?
— Был, — ответил Васильцов, не понимая цели ее вопроса.
— А случайно, может, — еще робче продолжала расспрашивать Нина, — не приходилось вам встречать… слышать, может… Поветкин… Сергей… Командир он… Старший лейтенант был…
— Поветкин… Сергей, — повторил Васильцов. — Нет, Ниночка, не доводилось ни встречать, ни слышать…
Дряхлый, во многих местах прошитый пулями вагон натруженно скрипел, качался, лязгал разболтанными буферами и надоедливо стучал колесами на стыках рельс. Вместе с вагоном плавно раскачивались двухъярусные нары, железная печь-времянка и все три десятка молодых солдат, шестые сутки томившихся в этом жилье на колесах. Давно были перепеты все известные песни, давно рассказаны занимательные и скучные истории, и наступило то нетерпеливо-нервное ожидание, которое охватывает людей, едущих неизвестно куда, но знающих, что впереди их ждут трудные и опасные дела.
В распоясанных гимнастерках, без ушанок, многие в одних чулках и подвязанных портянках, солдаты лежали и сидели на дощатых нарах, подбрасывали в печку дрова, грудились у распахнутой двери, тоскливо глядя на проплывавшие мимо едва очистившиеся от снега, залитые водой унылые поля. Все были молчаливы, задумчивы, видимо, вспоминая то, что осталось позади, и прикидывая, что ждет их впереди. И только один из всех — невысокий, веснушчатый паренек с большими, по-мальчишески оттопыренными ушами и нежным румянцем на курносом лице — был необычайно весел и возбужден. Он разгоревшимися карими глазами восхищенно глядел на мелькавшие мокрые поля, на голые, темные от сырости рощи и перелески, на облупленные железнодорожные будки. Паренёк то высовывался из вагона, жадно глядя назад, то вновь садился у двери, приглушенно вздыхая и мечтательно улыбаясь.
— Тамаев, это родина твоя? — видимо поняв состояние паренька, спросил кто-то с верхних нар.
— Родина, — протяжным вздохом ответил паренек.
— Родился тут, Алеша, да? — настойчиво переспросил совсем маленький, худенький, с остроскулым, почти черным лицом Ашот Карапетян.
— И родился, и рос, и учился! — стиснув плечи Карапетяна, выкрикнул Алеша. — Вот там дом наш, километров шестьдесят отсюда. На самом берегу Оки, у воды, как говорят у нас.
— А мой родина, ой, далеко! — шумно вздохнул Ашот. — Черное море знаешь? Вот там! Тоже у вода, только вода у нас соленый, соленый! И много вода, ой как много! Сколько ни смотри — край не увидишь!
Этот разговор словно всколыхнул всех. На нарах, у погасшей печки, у распахнутой двери наперебой загомонили звонкие и хриплые голоса, мечтательно заблестели десятки глаз, дробью рассыпался радостный смех, и весь вагон наполнился веселым, праздничным гулом.
Стиснув плечи Ашота, Алеша смотрел в дверь вагона и ничего определенного не видел. Он не заметил, как вначале тихо, а затем все громче и слышнее запел полюбившуюся ему фронтовую песню.
«Темная ночь, только пули свистят по степи», — бессознательно, тоненьким голоском выводил он, видя самого себя в бескрайней снежной степи и всем своим существом по-настоящему ощущая угрожающий свист вражеских пуль.
«Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают», — так же бессознательно продолжал Алеша, слыша и вой ветра, и свист пуль и видя перед собой далекие, холодные отблески звезд.
Он опомнился, когда песню подхватило несколько голосов, и Ашот, встряхивая его за плечи, жарко шептал на ухо:
— Душевно поешь, Алеша, очень душевно, слеза катится, сердце стучит! Давай дружить, Алеша, на всю жизнь! Как закон скажу: на Ашот надейся, никогда не подведет. Давай вместе проситься будем, к один пулемет. Ты наводчик, а я помощник, ой, как дела творить будем! Держись, фашист, твой капут пришла! Давай дружить, Алеша!
— Давай! — прошептал Алеша, продолжая петь так же вдохновенно и почти бессознательно.
«В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь», — замирая от нахлынувших чувств, выводил он, хотя не было у него ни любимой, ни тем более детской кроватки.
Внезапно песня оборвалась, и тут только Алеша увидел, что поезд подошел к большой станции и остановился.
По мокрой и грязной платформе суетливо бегали солдаты, тревожно осматривалась по сторонам какая-то женщина в огромной черной шали, в поисках пищи шныряла между людьми худая облезлая собачонка. К вагону подходил сопровождавший команду пополнения лейтенант. За ним вразвалку вышагивал коренастый солдат в серой десантной куртке, с объемистым вещмешком за спиной и с каким-то длинным свертком в руках.
— Сюда садитесь, — остановясь у распахнутой двери вагона, сказал коренастому лейтенант. — А вы потеснитесь немного, освободите место товарищу, — добавил он, глядя на сидевших в вагоне, и ушел.
— Здорово, орлы! — одним махом ловко вскочив в вагон, резко выкрикнул коренастый и, вытянувшись, как перед большим начальством, тем же резким, звонким голосом представился:
— Еще пока не гвардии рядовой Гаркуша, Потап Потапович, от роду тридцать пять лет, ни дома, ни хаты нет, никогда не было и, видать, не будет. О-о-о! — озорными глазами осматривая примолкших молодых солдат, насмешливо протянул он. — Я думав, це — орлы-гвардейцы, а бачу не орлов, а сусликов. Здорово, суслики! — вновь как в строю, строго вытянувшись, выкрикнул он. — Мовчат! — словно обращаясь к кому-то, удивленно осмотрелся он по сторонам. — Скажите на милость, мовчат! Та щож це такэ! Та хто ж вы такэ, а? Га! А ну вот ты, — повернулся он к Алеше. — Кто ты такой будешь? Га?
— Станковый пулеметчик, — смущенно пробормотал Алеша, невольно сробев под наглым напором Гаркуши.
— Кто, кто? — сморщив полное, с густыми сросшимися бровями и длинным, изгорбленным носом лицо, едко переспросил Гаркуша. — Кулэмэтчик, говоришь? Та якой же з тэбэ кулэмэтчик! Кулэмэтчик это ж грудь — сажень, рост — пид потолок, глаза — огонь и голос, як труба военная. А ты ж кирпатый, та ще курносый, та й росточек, як у того школяра, что матка по утрам пирожками пичкае.
— Ви вот что, — вдруг выскочил из-за Алешиной спины и ринулся на Гаркушу Ашот. — Ви грубиян, ви нахал, ви плохой человек…
— Стой, стой! — невозмутимо проговорил Гаркуша и, недоуменно разводя руками, обвел всех насмешливым взглядом. — Товарищи дорогие, що ж це получается? Человек в гости к вам пожаловал, а тут на него чуть ли не в штыки. Грубиян, нахал, плохой человек! Як це понимать? Га? Як? Ну, сам ты посуди, — подступил он к Ашоту. — Ты, я бачу, кавказский человек, а кавказцы гостя никогда не обижают! Так я понимаю?
— Ви никакой гость! — кипел возмущенный Ашот. — Ви оскорбитель, ви… ви… — от волнения он никак не мог подобрать подходящего слова. — Ви… Ви совсем нэ наш человек.