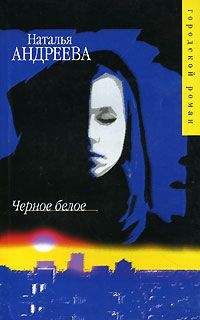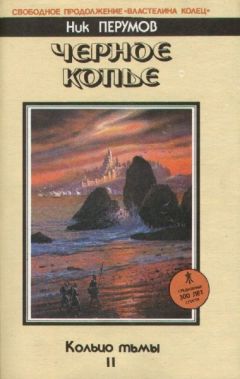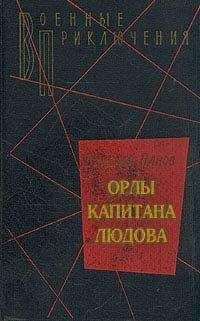– Но тебе и в Союзе будет нельзя, – предупредил, засовывая спирт за сиденье, Верховодов. – Пока под солдатским ремнем.
– Да тут лишь бы вернуться, товарищ старший лейтенант, – вдруг с грустью перебил водитель. – Еще этот завиток перед Кабулом…
Верховодов не нашелся что ответить. Собственно, можно было не отвечать, солдат ничего не спрашивал, он только размышлял, но Костя чувствовал, как ждет его реакции водитель. К тому же это было впервые – чтобы его подчиненный признавался в своих сомнениях, неуверенности. Как могло получиться, что они взяли верх над самообладанием? Неужели у всех в колонне такое угнетенное состояние? Конечно, каждого можно понять, но надо же помнить и другое: только кулак, только воля, только пружина – иных понятий для Афгана нет. “Расслабуха” здесь не про shy;ходит. Тем более в этом, дай бог, последнем, рейсе.
Он снял с панели “звездочку”, поднес к самым губам, включил рацию:
– Мужики! Говорю я! Дорога опасна, но ее нал все рал по теперь проходить до конца. Но мы должны вернуться, братцы. Сделать все и вернуться. Никому ничего не обещаю, потому что все зависят от нас са shy;мих. Прошу вас собраться и забыть, это мы возвращались в Союз. Мы опять на войне.
Верховодов опустил передатчик на колени. Кабину вновь наполнил треск эфира, но тут же прервался.
– Спасибо, командир, – раздался чей-то голос Верховодов попытался определить, кто это сказал, но водители в связь почти никогда не выходили, и он не знал, как звучат голоса подчиненных в эфире.
– Спасибо.
– Спасибо, – тут же последовало еще несколько включений.
Верховодов не понял, кто вздохнул с большом облегчением: он или Семен. Кому – ему самому важнее было услышать эти слова благодарности за поддержку или водителю узнать, что он был не одинок в своих сомнениях? Хотя что там делить, важен не торг, а результат. И надо опять вернуться к реальности. До кишлака осталось три километра, это одинаково много и мало, потому что считать можно только пройденный путь. Но уже теплится надежда на удачный исход, с каждым оставленным за бортом валуном она все сильнее и сильнее. Как же хочется надеяться и верить! Надежда – истинный друг, в ней не нуждаются в минуты радости, она появляется лишь в тот момент, когда человеку трудно.
Два с половиной километра…
Нам сказали: “На дорогах мины”.
Нам сказали: “Вас засада ждет”.
Но опять ревут бронемашины,
И колонна движется вперед, -
вдруг неожиданно вапел Семен. И так же неожиданно замолчал.
Два двести…
Дорога стала заметно круче, и Костя прикинул: как бы с такими темпами не добраться до снега. А Юля снег не любит. И морозы тоже.
– Я бы зимы мороженым заменяла, – улыбалась она. Из-за мороженого они и поссорились в последнюю встречу. Из-за двух пачек “Пломбира” по 48 копеек. Хотя как поссорились…
– Можно тебя увидеть? – Он сделал огромный крюк на полстраны, чтобы залететь к ней в Москву.
Она не удивилась его звонку, она вообще редко чему удивлялась.
– У меня встреча с подругой на “Речном вокзале”. Если хочешь, приезжай. Последний вагон из центра.
Юля была уже на месте, когда он примчался из аэропорта на такси.
– Здравствуй, – протянул цветы.
– Привет. Спасибо.
И все. Как будто они расстались только вчера, как будто он не улетал на год в Афган. В глубине души шевельнулась обида, но что значит она по сравнению с тем, что он видит Юлю!
– Ну и как там? Стреляют?
Нет, не забыла. Помнит, помнит…
– Иногда постреливают.
– Что-то подруги нет. Подожди, пожалуйста, я выйду позвоню.
Она оставила свою сумку и неторопливо пошла к эскалатору. “Хоть бы не приехала, хоть бы не приехала”, – умолял он. Тогда они смогут побыть с Юлей вдвоем.
– Не приедет. – Юля вернулась быстро, и только потому, что стала конаться в сумке, не заметила его счастливой улыбки. – У нее гости, пригласила к себе. Но мороженое уже не довезти.
Вот тогда она и вытащила из сумки две пачки “Пломбира” – уже мягких, подтаявших. Он протянул “Красную Звезду” – специально берег и вез, там было о нем написано несколько строк. Юля завернула мороженое в газету, оглянулась. Урны не было, и он протянул руку: давай вынесу.
И в этот момент подошел поезд. Юля быстренько сунула ему сверток, запрыгнула в вагон. Уже через захлопнувшиеся двери помахала ему пальчиками, а он, ошарашенный, ничего не понявший, остался стоять на перроне. И ушел ее поезд, и во второй люди сели, а он все стоял, не веря в происшедшее. Окончательно растаявшее мороженое выскользнуло из свертка, мягко упало на пол, забрызгав туфли и брюки. Стоявшие рядом пассажиры неодобрительно посмотрели на него, отошли в сторону, а он, собирая с пола белую липкую массу, все еще надеялся: она не могла так просто уехать, нельзя же так презирать человека, который любит ее. Нет, она выйдет на следующей станции, пересядет в обратный поезд и вернется. Не вернулась…
Километр семьсот.
Осталось чуть-чуть. Совсем немного. Проскочить бы, проскочить…
Оказалось, все время, даже думая о Юле, он тем не менее держал в памяти дорогу. Дорогу и горы во shy;круг. И еще – оставшиеся километры. Мозг словно разделился на две части. Одна, вроде главная, все время искала что-то отвлеченное, совершенно ненужное для дороги. Господи, как же мы готовы обманываться, легки на это. Но вторая, вторая – умница, ка shy;раул под ружьем, каждую секунду готова была оценить ситуацию, принять решение и выдать команду.
Километр шестьсот.
Приближается поворот, за ним, видимо, уже будет виден кишлак. Одну или две машины придется разгрузить, чтобы взять детей. Юля как-то бросила фразу: “Нужны мы там больно”. Нужны, Юля, а сейчас – особенно. Собственно, не только Семену и себе он сейчас доказывал свое мнение об Афгане, а спорил с ней, с Юлей. “Мы все считаем, что ваш Афганистан – эго авантюра от начала и до конца”. – “Кто считает?” – “Все”. – “Кто – все?” – “Кого я знаю”. – “Значит, не все, а твое окружение?” – Она фыркнула, махнула на него безнадежно рукой. Идиотство какое-то: о чем бы ни шел разговор, заканчивался всегда Афганистаном. Неужели он встанет между ними непреодолимой стеной?
Километр четыреста.
Но нет, не Афганистан встал между ним и Юлей. Афган для нее – лишь повод уколоть его, не дать приблизиться к себе.
– Что ты в ней нашел? – удивлялись однокашники по суворовскому училищу – по “кадетке”, как числилось в обиходе, когда он стал приглашать Юлю на ежегодные встречи. – Обыкновенная московская фря, произносит чужие мысли, повторяет чужие поступки, делает чужие жесты. Ты что, не видишь?
И только Дима Камбур, их неприметный, но не признающий компромиссов Каламбурчик, увидел в Юле то, что чувствовал и сам Константин.
– Она может быть удивительной девушкой, Костя. Когда она забывает про свою роль этой самой московской фри, она становится, на мой взгляд, той, какая есть на самом деле, – чистой, добросердечной, чуткой. Помнишь, как она запросто разделила на нас троих твое яблоко? Вот это и надо в ней видеть. Она же, видимо, считает это немодным и стесняется, боится выглядеть старомодной. Отсюда и разговоры про видео, театры, шмотки, “Березку”. Но ты помни яблоко, Костя. Честное слово. Это не характер, это возраст.
– Сопротивляется, – с горечью улыбнулся Костя. – Так ей в ее окружении удобнее.
– Ненавидеть легче, чем любить, – Димка очень редко рассуждал, он и у доски даже ради оценки, а значит, и увольнения в город, не отличался многословием, и тем дороже были сейчас его слова для Кости. – Потерпи. И никого не слушай, кроме своего сердца.
А он, собственно, и по слушал. Он был поражен жестом Юли – еще не знал ее, не ведая, кто такая. Он, только что выпустившийся из училища лейтенант, в новенькой, необмятой еще форме спешил на встречу со своим “кадетским” взводом. Был уговор: каждый год, кто может, приезжать первого августа на Фили к “кадетке”. Он опаздывал к условленным десяти утра, бежал, уже потный, по эскалатору на переходе на “Киевской”. И вдруг впереди, с узлами и авоськами в руках и через плечо, стала старушка. Эскалатор заканчивался, старушка испуганно переступала с ноги на ногу, поглядывая на стальные зубцы внизу. Ей надо было бы помочь сойти, но Костя, как ни спешил, остановился, стал сбоку: постеснялся в форме возиться с узлами.
Старушку поддержала девушка, стоявшая рядом. Она взяла один узел, бабуля вцепилась в ее загорелую руку – и так вместе они и сошли, и прошли еще несколько метров, подальше от толпы. Потом девушка легким движением заправила старушке под платок выбившуюся прядку волос, и они пошли на пригородный перрон.
Смущенный, словно его уличили в пренебрежении к старому человеку, его узлам, Костя шел следом. Старушка села в калужскую электричку, в тамбуре начала кланяться оставшейся на перроне девушке, а та, вдруг посмотрев на остановившегося невдалеке лейтенанта, усмехнулась. И он понял, что она видела все, чувствовала и теперь презирала его. Лучше всего было сделать вид, что она ошиблась, сделать недоуменное лицо, но он сам подошел к девушке. С рассыпанными по плечам волосами, в больших солнечных очках, с двумя родинками под левым ухом – он сразу увидел эти родинки и влюбился в них.