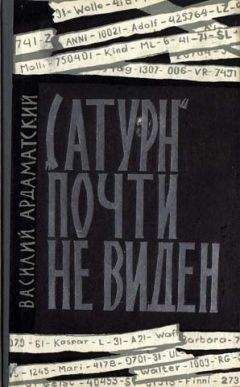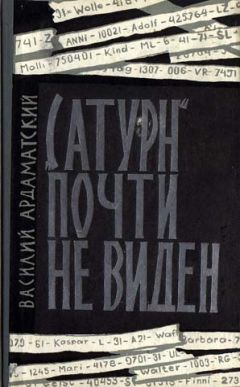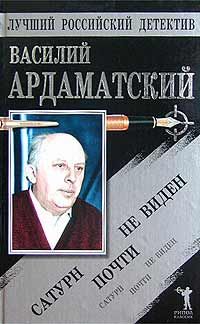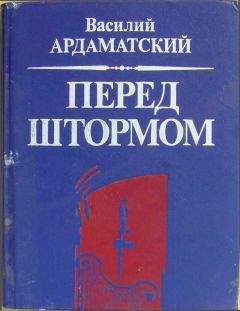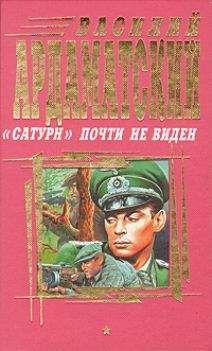Мюллер взял телефонную трубку, назвал номер и приказал привести к нему арестованную Лидию Олейникову. Пока он звонил, Щукин думал только об одной услышанной им фразе: «…может быть, даже когда кончится война». Он уже готов был переспросить у Мюллера, не оговорился ли он, но благоразумно удержался.
— Беседовать с ней будете вы, — сказал Мюллер. — Может быть, с русским она будет податливее. Ваш разговор мы запишем на пленку и потом его проанализируем.
В дверь постучали. Мюллер быстро отошел в глубь кабинета, сел там в кресло и закрылся журналом.
Конвойный ввел в кабинет худенькую девушку в простеньком синем платье. У нее было невзрачное лицо, на котором только глаза, большие, светло-голубые, выражали дикий страх.
— Сядьте, Олейникова, сядьте, — доброжелательно сказал Щукин и показал ей на кресло, которое стояло по другую сторону маленького столика.
Она села и испуганными глазами осмотрелась вокруг, на мгновение задержав взгляд на Мюллере.
Щукин подождал немного и спросил тоном доброго учителя:
— Достаточно ли точно вы поняли, что вам предлагают?
— Да, достаточно, и я этого не сделаю, — с заученной торопливостью произнесла Олейникова.
— Все же я вам скажу об этом еще раз.
Щукин пересказал ей то, что сам пять минут назад услышал от Мюллера.
Олейникова слушала его, отвернувшись к окну. Когда Щукин замолчал, она сказала:
— Я этого не сделаю. Умру — не сделаю!
К ним подошел Мюллер. Он пододвинул стул и сел рядом со Щукиным напротив Олейниковой. На лице у него была сладчайшая улыбка. Коверкая русские слова, он сказал:
— Вы тоже не будет соглашаться, если мы сказал, что человек, который будет прийти к вам в Москве, есть ваш большой любовный друг Гельмут?
Олейникову точно хлыстом ударили. Она всем телом рванулась из кресла, потом опять села и вжалась в него.
— Да, да, — улыбнулся Мюллер. — Именно так. Придет к вам Гельмут. Так что можно ему сообщить? Хотите вы с ним встречаться в Москве? Да? Нет?
Олейникова посмотрела на Щукина, снова на Мюллера, потом отвела взгляд к окну.
— Ну, ну, мы ждем ответ. У нас нет много времени.
— Я не сделаю этого, — тихо сказала Олейникова.
— Так и сообщить Гельмут? — уже строго спросил Мюллер.
— Сообщите.
— Подумай еще.
— Нечего мне думать! Не сделаю, и все.
Внутри Мюллера точно какая пружина сорвалась. Он вскочил со стула, схватил лежавшую у него на столе тяжелую связку ключей от сейфов и начал наотмашь бить ею Олейникову по лицу. Голова ее дергалась, на лбу показалась кровь, но она даже не прикрыла лица рукой. И вдруг она вскочила, метнулась сначала к двери, потом повернула к окну, легким прыжком взлетела на подоконник и начала плечом выбивать раму.
— Держите ее! — заорал Мюллер.
Щукин схватил ее за ногу, когда она уже наполовину высунулась в окно. Она навзничь упала на подоконник. Подбежавший Мюллер стащил ее на пол и принялся пинать ногами…
Рудин в течение всего этого дня тщетно пытался увидеть Щукина, необходимость переговорить с ним была безотлагательной. Еще вчера вечером он через Бабакина получил от Маркова записку следующего содержания:
«Пойман еще один отправленный «Сатурном» агент, который, судя по документам, должен был законсервироваться на весьма длительное время, вплоть до послевоенного. Показаний по этому поводу арестованный не дал. Старков категорически приказывает срочно выяснить, в чем тут дело».
Рудин знал только одно — что и этот агент послан группой «Два икс». Неужели Щукин по-прежнему ничего не может узнать и поэтому последние дни избегает или не ищет встречи с ним?
Возвращаясь из столовой, где Щукина не оказалось, Рудин заглянул к Фогелю.
В зале оперативной связи, как всегда, стоял ровный шум, сливавшийся из стука ключей на передатчиках, писка регенерации и тихого говора радистов.
Фогель стоял возле одной из раций и через плечо оператора читал записываемую им радиограмму. На лице Фогеля было удивление. Он увидел Рудина и жестом подозвал к себе. Оператор закончил прием радиограммы и протянул бланк Фогелю, а тот, не читая, передал его Рудину.
— Вот до чего уже дошло, — сказал он. — Эти ничтожества нас учат.
Рудин, будто нехотя, взял бланк и прочитал: «Наше дальнейшее пребывание здесь считаем нецелесообразным и бесполезным. Откладывание нашего возвращения вызывает трудности в связи с предстоящим перемещением фронта на запад. Радируйте согласие на наше возвращение и его способ. Цезарь».
Рудин вернул радиограмму Фогелю. Тот швырнул ее на стол и сказал:
— О предстоящем перемещении фронта они пишут так, будто непосредственно связаны с главной ставкой в Кремле. — Подозвав дежурного секретаря, Фогель приказал ему снести эту радиограмму полковнику Зомбаху, а сам взял Рудина под руку. — Зайдемте ко мне… по традиции.
Они прошли в жилую комнату Фогеля. Рудин не был здесь с зимы и поразился царившему в комнате беспорядку.
— Что это тут у вас? — рассмеялся Рудин. — Опись белья и прочего имущества?
Фогель, не отвечая, подошел к шкафу, вынул оттуда бутылку коньяку, молча наполнил две рюмки, удивленно посмотрел на пустую бутылку и швырнул ее в угол, где кучей было свалено грязное белье.
— Выпьем, Крамер, для ясности, — сказал он и, не дожидаясь Рудина, опрокинул рюмку. — Не нравится мне все это.
— Что именно?
— Кажется, ясно сказано — все, — раздраженно сказал Фогель. — А вам все по-прежнему нравится?
— Я работаю, — спокойно ответил Рудин. — И больше ничего не хочу знать.
— Бросьте, Крамер! Я бы поверил вам, если бы знал, что вы слепой кретин! Просто вы не хотите или, вернее, боитесь говорить. — Фогель насмешливо смотрел на Рудина. — Помнится, я вам говорил, что моя жена — дочь очень богатых родителей. Так вот, мы с ней уже унаследовали все их богатство. Ее отец, мать и брат погибли в одну ночь во время налета американцев на Гамбург. Не стало не только их, но, говорят, и всего Гамбурга. Но я, Крамер, теперь богат. После войны приезжайте ко мне в гости. Я куплю яхту и построю дачу на берегу моря. Приедете?
Все это было похоже на истерику, и Рудин немного растерянно смотрел на Фогеля. А тот эту растерянность, очевидно, принял за сочувствие и положил руку на руку Рудина.
— Спасибо, Крамер. Я вижу, вы понимаете мое состояние. — Фогель взял рюмку Рудина и выпил ее. — Все, Крамер, преотвратительно. Пришла пора, когда нас учат набранные вами люмпены, а полковник Зомбах с утра до вечера занят изобретением способов дать понять Мюллеру, что он относится к нему лояльно. Тьфу! А Мюллер, по-моему, попросту вернулся на свою блевотину, в гестапо, и делает то, что ему приказывают с Принцальбертштрассе. Есть еще могущественный абвер Канариса или его уже сдали в архив? Иногда мне моя работа здесь кажется похожей на какую-то дурную игру. Именно игру. А где-то ведь свершается подлинная история. Получаешь вот такие радиограммы, и хочется бежать на фронт. Лучше погибнуть от русской пули в бою, чем бесцельно возиться с русскими кретинами, именуемыми агентами абвера. Чушь! С самого начала чушь, а теперь в особенности!
— Я знаю, дорогой Фогель, что вы человек настроения, — Рудин сочувственно улыбнулся ему. — Пройдет, пройдет и это. А вот по поводу гибели близких примите мое искреннее сочувствие. Это горе настоящее.
— Нет, Крамер! — Фогель по-бычьи упрямо покрутил головой и заговорил, быстро распаляясь: — Родители жены… Да черт бы их побрал, кто они мне? Плутократы, которые по гостиным и курительным рассказывали анекдоты про фюрера, наживались на его заказах для армии. А ведь на меня они смотрели как на печальное недоразумение, которое приходится терпеть, поскольку их дочурка отдалась мне, находясь в уме и полном здравии. Задавило их, не задавило — мне от этого ни жарко ни холодно. На их капиталы я плевал. Я ведь, Крамер, солдат партии фюрера по убеждению, а не по калькуляции. Только жену вот жалко: ей-то они родители…
— Почему вы не возьмете отпуск? — спросил Рудин. — Съездили бы к жене, побывали возле нее, она же в большом горе.
— Опять вы про большое горе! Где большое горе, Крамер? Где? — он несколько раз обвел взглядом комнату, как будто искал это горе, и воскликнул: — Оно здесь! Неужели вы этого не понимаете?
— Всякая война не праздник, а такая — тем более, — как нельзя более серьезно ответил Рудин. — И к этому нужно было заранее подготовиться. Иначе может опасно перекоситься взгляд на все события, а частные неудачи на фронте кое-кому покажутся катастрофой.
— Я о катастрофе ничего не говорил, — поспешно сказал Фогель, удивленно и растерянно смотря на Рудина. — Но ведь факт же, что волю фюрера искажают негодяи. Вспомните Сталинград. Фюрер хотел дать там решающее сражение коммунистам, а генералы пеклись только о том, чтобы попристойнее бежать оттуда. Все же об этом рассказывают, даже сверхосторожный Зомбах. А Западный фронт? Почему англосаксонские бандиты безнаказанно губят наши города? Где прославленная авиация Геринга? Говорят, она распылена по всем фронтам, опять-таки вопреки воле фюрера. Вот же, Крамер, в чем дело и отчего я теряю власть над собой. Почему фюрер не поручит Гиммлеру разогнать и истребить саботажников, засевших в главном штабе? Вместо этого гестапо лезет в наш абвер, как будто именно здесь скрылись враги фюрера, не желающие следовать его воле. Вы должны быть счастливы, Крамер, в своем неведении. Но ведь упорно держится слух, что некоторые генералы в заговоре против фюрера. И когда люди, ему преданные, видят все это и бессильны что-нибудь сделать, им нетрудно потерять голову. Какие тут, к черту, частные неудачи? Вы бы почитали, что пишет мне жена! Там же, в Германии, полная паника. Может, из-за этого я не хочу и ехать туда. Я не перенесу встречи с нашим тупоголовым немецким обывателем. Когда фюрер в Париже, обыватель орет «Хайль!», а когда фюрер ведет тяжелую историческую битву с русскими, где победа дается кровью, он орет «Караул!» Мне нельзя встречаться с этой публикой — перестреляю. Ведь там ничего не понимают, Крамер. Я безжалостно написал жене, что нельзя удивляться гибели ее брата, потому что он, вместо того чтобы идти на фронт, прятался за папину спину. А жена пишет в ответ, что, наверно, я тут сошел с ума. Кто, я вас спрашиваю, Крамер, сошел с ума — я или они? Будь проклята вся эта порода! А ведь фюрер предвидел и это. В «Майн кампф» он писал, что постоянной задачей партии является истребление в немецком народе вонючего духа бюргерского мещанства. Они же подняли сейчас голову, приняв облик генералов-заговорщиков или спрятавшихся от войны спекулянтов. Нет, нет, Крамер, долго я этого не выдержу. Я подам рапорт, чтобы меня послали на фронт. Все преданные фюреру солдаты партии должны быть там, где перед глазами враг, а не эта муть с вашими люмпенами, которые дороже своей шкуры ничего не знают. Мы, видите ли, должны их спасать в предвидении передвижения фронта. Ваши боевые кадры, Крамер! Можете, конечно, быть довольны своей деятельностью и смотреть на меня как на неврастеника, можете! Но меня вы этим не успокоите и уважения моего к вам от этого не прибавится. Наоборот, Крамер… Мне не по душе слепые. И те, кто таким родился, и те, кто слеп по умыслу. Понимаете вы меня? А теперь уходите, я боюсь, что наговорю вам лишнего…