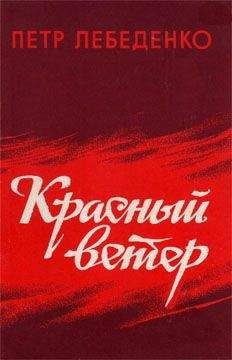— Ты возьмешь сейчас эти деньги, — сказал Шарвен, — пойдешь на почту и отправишь их своей сестре с припиской, чтобы она поделилась с Жанни. Оставишь немного для того, чтобы нам хватило на пару дней.
Вернулся Гильом лишь через два часа. В руках у него было около десятка свертков с сыром, колбасой, булочками, марокканскими сардинами, баночками паштета и прочей снедью. Через плечо у него висела какая-то туристская сумка, из которой выглядывали горлышки бутылок с коньяком и вином.
Делая вид, что не замечает неодобрительных взглядов Шарвена, Гильом разложил и расставил свои покупки на столе и сказал:
— Слушай, старина, я сейчас вспомнил знаешь кого? Как-то Пьер Лонгвиль познакомил нас с русским летчиком Денисовым. Забыл, как его звали… Кажется, Валери… Славный это был человек, а, Шарвен? Что-то у него случилось с мотором, и он простоял на парижском аэродроме целую неделю… Мы все в него влюбились, в этого Валери, и, когда провожали, затосковали так, будто провожали самого близкого друга… А помнишь, что он сказал на прощанье? «Давайте, братцы, отвальную…» Есть у них, у русских, такой обычай — пить на прощанье «отвальную»… Отличный обычай, старина, и, клянусь богом, мы с тобой не будем летчиками, если не последуем этому обычаю. Садись, Арно, садись, Аурелио, и да здравствует Испания! — Они выпили, и Шарвен сказал:
— Еще тогда Валери Денисов говорил: «Чует мое старое сердце, что вулкан в Европе скоро взорвется…» А ведь это было… Когда это было, Гильом? Мы тогда считались, с тобой сосунками — только-только начинали летать. А за плечами этих старых пилотяг Пьера Лонгвиля и Валери Денисова уже лежали тысячи налетанных часов… Давай, Гильом, за старых пилотов. За живых и за мертвых…
— Давай, Арно. За живых и за мертвых…
Уже в полночь к ним постучали. Покачиваясь, Гильом подошел к двери, открыл ее и крикнул Шарвену:
— Ты видишь, кто к нам явился? Думаешь, это Леон Блюм или маршал Петэн? Нет, это собственной персоной пожаловал его величество «Эй ты»! Прошу вас, сеньор денщик-адъютант. Кушать подано, вино разлито. Коньяк, «шабли», итальянское «кьянти»?
— Меня зовут Жером. Жером Оливье.
Рады вас видеть, мсье Оливье, — сказал Шарвен. — Вы, наверное, по поручению своего хозяина?
Жером Оливье молча проследовал к столу, плеснул в стакан коньяку и выпил. Потом подцепил вилкой сардину, отправил ее в рот и, почти не жуя, проглотил.
— Меня зовут Жером. Жером Оливье, — повторил он. Голос у него был хриплый, глаза слезились, пальцы рук мелко подрагивали. — Какого черта — денщик, адъютант! Жером Оливье вот уже десяток лет обыкновенный холуй. А был… Ладно, не в этом суть… Я выпью еще. Разрешаете? Ух!..
Гильом подлил в свой стакан, выпил и тоже сказал:
— Ух!
— Садитесь, Жером, — предложил Шарвен. — Вы к нам в гости?
— В гости? Нет. Да… А что? Пришел просто так, Жером Оливье — одинокий волк. Ха, здорово звучит, не так ли? Одинокий волк… Никого нет. И ничего нет. Трухлявое дерево. Р-разрешаете?
Он снова выпил, закрыл глаза и сцепил на животе пальцы с обкусанными ногтями. Глубокие морщины, как борозды, спускались по щекам к углам рта, и от этого лицо казалось угрюмым, даже злым. Лоб у него был низким, словно у обезьяны, тонкие, с серым оттенком, тубы беспрестанно шевелились, точно Жером Оливье где время что-то нашептывал.
— А вы ребята что надо! — открыв наконец глаза, прохрипел Оливье. Хозяин знает толк в людях. Они, говорит, это вы, значит, классные летчики. Будут, говорит, без промаха бить красных.
— Он тоже будет бить, — заметил Шарвен.
— Он? Разрешаете? Ух!.. Он тоже? Хозяин? Он — птица высокого полета. Что?.. Он скоро вернется. Сюда. В штаб. Правильно. Я, говорит, сам переправлю туда целую эскадрилью. Прилечу улечу. Прилечу — улечу. Хозяин… Там, говорит, будет драться эскадрилья Бертье. Правильно. Вы — первые ласточки, первые орлы…
— Орлы-стервятники, — хмыкнул Гильом.
— Зачем? Герои! Слава! И монеты. Много монет?
— Много, — сказал Шарвен. — Хватит. Еще и останется.
— Правильно…
Язык у Оливье начал окончательно заплетаться, глаза совсем потускнели.
— Вам лучше пойти поспать, мсье Жером, — предложил Шарвен.
— Я спущу его с лестницы, этого одинокого волка! — прошептал на ухо Шарвену Гильом. — А еще лучше — вышвырну в окно. Здесь не так уж высоко — всего шесть этажей.
— Я провожу вас, мсье Оливье, — сдержанно сказал Шарвен.
4
Без четверти четыре они приехали на тулузский аэродром. Без пяти четыре они снимали чехлы с моторов истребителей. Механики завели моторы.
Чуть в стороне, по боковой бетонной дорожке, промчалась открытая легковая машина, и в рассеивающихся сумерках Шарвен увидел в ней офицера. Ему даже показалось, что машина, поравнявшаяся с ними, притормозила и офицер привстал на сиденье. Но шофер прибавил газ, и через мгновение уже ничего не стало видно.
Бертье, бледный не то от волнения, не то от бессонной ночи, подошел к Боньяру и. Шарвену, сказал:
— До границы, как и договорились, будем лететь вдоль Гаронны. Потом свернем на Уэску и дальше — прямо на Сарагосу. Аэродром где-то сразу за Эбро, на месте уточним. Пошли по машинам.
Взбухшая от частых дождей Гаронна петляла рядом с линией железной дороги Тулуза — По — Дакс, потом она круто свернула на юг и вскоре пересекла границу. Бертье покачал крыльями своей машины: мы — в Испании, берем курс на Уэску.
Он летел ведущим. Слева, почти крыло в крыло, но чуть сзади, вел «девуатин» Арно Шарвен, справа, тоже вплотную к Бертье, — Гильом Боньяр.
Шли на высоте трех тысяч метров, рассекая крыльями белые громады кучевых облаков. Внизу, на желтоватых холмах и в зеленых долинах, лежали клочья предутреннего тумана, а с моря, отсюда невидимого, сочился голубоватый свет, словно оно было рядом, а не за десятки километров в стороне. По узким тропкам и проселочным дорогам, несмотря на ранний час, двигались сверху едва различимые крестьянские арбы, крошечные фигурки людей и животных. А где-то у самого горизонта отсвечивало зарево пожаров, и казалось, будто по небу растекаются красные ручьи — растекаются плавными волнами и вдали бледнеют, угасают, размываясь в гаснущих сумерках…
Бертье испытывал чувство, похожее на юношеский восторг. Его считали первоклассным летчиком и, пожалуй, не зря: он действительно был способным пилотом. Великолепная реакция, умение мгновенно оценить обстановку, сжимать, скручивать в тугую пружину волю, в тот или иной момент принимать единственно правильное решение во время боя — все это давало полковнику Бертье возможность не раз выделиться из массы посредственных авиаторов, которых он презрительно называл «серыми лошадками».
Правда, была у полковника Бертье одна неизлечимая болезнь — тайный, скрываемый от всех и даже от самого себя, недуг, с которым он честно, до самоотверженности боролся, но который до конца победить не мог: встречаясь в воздухе с противником или летя над его территорией, Бертье вдруг начинал испытывать животный страх, порой доводящий его до отчаяния, до потери здравого смысла. Откуда он приходил, этот страх, что являлось его первопричиной, Бертье, пожалуй, толком объяснить не смог бы. Ведь Бертье не сомневался — из любой передряги он выйдет победителем: о себе, как о летчике, он был очень высокого мнения и самонадеянно предполагал, что в большинстве своем летчики противника как раз и есть те «серые лошадки», которых вообще не стоит брать в расчет.
А страх тем не менее захлестывал Бертье так, словно он нежданно-негаданно погружался в гнилую пучину всасывающего его болота и задыхался в ней.
Потом это проходило, но оставляло после себя такой горький осадок, что Бертье еще долго не мог обрести привычный душевный покой и уравновешенность. Он бесновался, вымещая на всех и вся свою злобу, свой временный, как он сам определял его, «распад личности», и в такие минуты становился страшным.
Однажды — это было в Африке — Бертье приказали вылететь в район скопления повстанцев и произвести тщательную разведку. Маршрут пролегал через покрытую мертвыми песками и застывшими барханами местность, где изредка поднимались закрученные в спираль смерчи да кое-где можно было увидеть белеющие, иссушенные ветрами и нещадно палящим солнцем скелеты людей и животных.
Бертье, конечно, понимал: случись что с мотором, сядь он в этих местах на вынужденную — и все будет кончено. В лучшем случае белый человек, — неприспособленный к существованию на этой бесплодной, забытой богом земле, затеряется в мертвых песках и погибнет от жажды и голода, в худшем — попадет в руки людей, которых этот белый человек никогда не щадил и от которых, естественно, не может ждать пощады.
И все же в тот раз Бертье летел на разведку в довольно приподнятом настроении, весело поглядывая на скользящую по барханам тень самолета и насвистывая какую-то легонькую мелодию. Мотор гудел ровно, приборы показывали, что все в порядке, крутить головой, высматривая самолеты противника, никакой нужды не было: какие к черту у повстанцев самолеты, когда им не хватает даже старых винтовок и патронов!