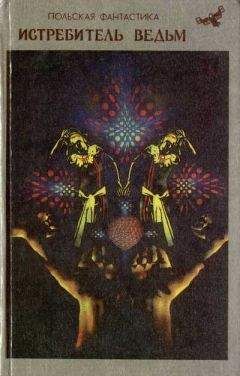— Ну, так что мы? Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь висит над ними туча огня, дыма, немецких пикировщиков, а Чуйков стоит.
Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие, страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надежный, кряжистый. Они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.
Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушел со второго курса Петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторийском.
Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далеком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь. Да, пришел час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: омичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев, — тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага. Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что, сколь ни тяжела военная учеба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши, — все же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил ее в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в сталинградской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость сибиряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток покрыли расстояние в двести километров. И все же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.
Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть жизни прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, зиждились на железной вере. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической части Свирин обладал крепкой волей, острой мыслью, — аскетической скромностью, он умел оставаться спокойным, веселым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полковника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимца полка, по-отечески заботливого к подчиненным, мягкого и «симпатичнейшего человека», не знающего, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением, — и все же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» — думал полковник.
Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в Заволжье огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов, без единой минуты перерыва, шли волна за волной немецкие самолеты, восемь часов выли сирены, свистели бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налета немецкой авиации, тот поймет, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбежки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по немецким самолетам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная черной пылью и дымом заводская земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулеметными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, все живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжелые полковые минометы и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье. Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские минометные батареи, и мало кто спал в эту ночь.
Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг: начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела увидели слезы на глазах седых людей.
«Какая судьба, какая судьба!» — говорили они. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжелого долга.
Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва взошло солнце над вспаханной немецким железом землей, появилось сорок пикировщиков, и снова завыли сирены, и снова черное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в черном тумане. В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешел в наступление. Батальоны шли вперед через горы шлака, через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, и они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?
Да, они были смертны. Полк Маркелова прошел километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаковали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжелые танки, и пулеметы заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков. О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мертвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулеметы, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожженные немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повзводно, поротно, побатальонно…
Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но они сделали свое дело.
На третий день немецкие самолеты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воющие голоса сирен «Юнкерсов» и, как тяжелые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и минометы. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Иногда они устраивали огневые налеты, по ночам они вели изматывающий методический огонь. Вместе с ними работали минометные батареи. Это было направление главного удара.