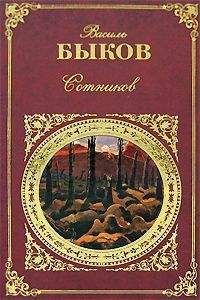Ознакомительная версия.
Заруба пробыл в Минске недолго – всего два дня. Егор съездил на станцию к поезду и привез его в местечко. Как всегда, председатель исполкома в дороге почти не разговаривал, только спросил: «Ну что там у нас? Какие новости?» – «Да так, никаких новостей», – ответил Егор. Заруба, помолчав, как-то необычно протяжно вздохнул и сказал: «Новости будут, Азевич. Скверные будут новости». Эти его слова отозвались тревогой в душе возчика, он думал, что Заруба что-то объяснит, но тот ничего не сказал больше.
Очень хотелось ему рассказать председателю о своих заботах – двух непростых вызовах в поповский дом, но он не решался нарушить запрет Милована. Неизвестно к тому же, как к его откровенничанию отнесся бы Заруба. А вдруг разозлится? Или не поверит? А то еще хуже – сообщит о том Миловану. И он решил промолчать. Трудно о чем-то думая, всю дорогу молчал и Заруба.
На другой день они собрались в Заболоть. Выехали, однако, поздно: Заруба задержался в исполкоме, потом на местечковой улице Егор обнаружил, что Белолобик захромал. Он слез с возка – у лошади на левой передней сломалась подкова. Егор попытался оторвать ее, но без щипцов не сумел это сделать. Наверно, следовало возвращаться. Ехать же в кузницу уже было поздно, по-видимому, поездку следовало отложить до завтра. Председатель к такому повороту дел отнесся почти безразлично. «Завтра так завтра», – сказал он, выслушав Егора, и тот завернул возок.
Назавтра утром с Белолобиком на поводу Егор шел местечковой улицей к речке, где была кузница, и повстречал Полину. Девушка куда-то торопливо бежала в своем синем пальтишке, с потертым портфельчиком в руках. Завидев его с лошадью, еще издали заулыбалась, он поздоровался, и она остановилась. Минуту молча рассматривала Белолобика, потом почему-то – его. Он стал сбивчиво объяснять, куда идет, а она как-то не в лад с его объяснением бросила: «Ну и шапка у тебя, Азевич!» – «А что?» – не понял он и сдернул с головы свою обловушку. «Как у подкулачника», – выпалила Полина и, словно в утешение ему, еще веселее заулыбавшись, побежала по улице. Уязвленный ее мимолетной колкостью, он уныло побрел к кузнице. Шапка? Уж какая есть, другой взять негде. В лавке шапок не продают, пошить не из чего. Эта, правда, неказистая с виду, зато теплая, из овчины. Шил еще дед, носил несколько лет отец, и он ее носит уже третий год. Хорошая шапка.
Так утешал себя Егор, но шапка-кучомка все же становилась ему противной, захотелось снять ее да бросить куда за забор. И он думал: скорее бы лето, тепло; дома у него висела на гвозде неплохая кортовая кепка, почти еще новая, с чуть надломленным козырьком. Он наденет кепку и будет как все ребята в местечке. И Полина тогда не скажет, что шапка у него, как у подкулачника.
Но тепло не наступало, наоборот, под весну ударили холода. Как-то под утро Егор проснулся в своей промерзшей риге, услышав, как стреляет мороз по углам. А тут надо было выезжать в район, Заруба сказал: на три дня. В этот раз предрика выезжал с бригадой уполномоченных – на трех возках. Рано утречком Егор прибежал в конюшню, чтобы успеть подготовиться к поездке, и застал там старика Волкова, который уже холил своего любимца. Он сказал Егору, что поедут Фирштейн из райкома, Бугаенченко и Солодуха из исполкома. И еще Пташкина из женотдела. Когда он назвал Пташкину, сердце у Егора встрепенулось от непонятной радости, но тут же и опало – с кем она поедет? Но не все ли равно с кем, наверно же, не с Зарубой. С Зарубой, если на то пошло, сядет Фирштейн, как и полагается – начальник с начальником. После того как арестовали первого секретаря, Фирштейн заступил на его место, хотя еще и не был избран.
На исполкомовском дворе они принялись запрягать свои сани-возки. У Егора был, наверно, самый лучший в исполкоме возок – легкий, окрашенный в синий цвет, он очень правился возчику. И Егор уже прикидывал, как бы в нем гляделась Полина. Рядом с Зарубой. Но вряд ли она сядет к нему, наверно, устроится в другом месте. С такой мыслью Егор заводил в оглобли коня, и тут кто-то сзади сдернул с его головы шапку и надвинул на глаза что-то чужое и холодное. Егор испуганно обернулся – сзади, смеясь, стояла Полина. «Вот будешь красавчик. Это тебе от женотдела», – все смеясь, сказала она, спрятав за спиной его шапку, – наверно, чтобы не отнял. Егор недоуменно посмотрел на девушку, потом на то, что снял с головы, – это была настоящая, армейская, почти еще новая буденовка. Ладно скроенная и сшитая из серого сукна, с застегнутыми наушниками и разлапистой черной звездой спереди. Но почему это ему? За что? «Надевай, надевай, нечего любоваться! Пусть девчата любуются», – покровительственно торопила его Полина.
Но он, не замечая мороза, продолжал разглядывать буденовку, ее маленькие пуговички со звездочками, острый ладный пупок наверху. И это – от Полины. Напрасно говорит: от женотдела, какое он имеет отношение к женотделу, где еще никого не знает? Значит, от Полины, спасибо ей. Он был по-настоящему тронут и слишком смущен, чтобы как следует поблагодарить девушку. Но все-таки надо было запрягать коня, и он бережно, двумя руками надел буденовку, которая оказалась ему немного тесноватой. Но – пустяки, приносится. Теперь он становился похожим на красноармейца или какого-нибудь начальника, а вовсе не на исполкомовского кучера. Горделивое чувство шевельнулось в нем и исчезло. Полина же тем временем повернулась и побежала в исполком, где собирались отъезжающие. Рядом заворачивал свой возок Волков. «Подарочек получил? – как-то с намеком пробасил старый фурман. – Ну-ну...»
Они недолго постояли на выезде со двора, подождали. Наверно, все отъезжающие уже собрались, да что-то не спешили на мороз из теплого исполкома – совещались в кабинете председателя. Как только их совещание окончилось, первой выбежала на крыльцо Полина и вскочила в возок к Егору. «Вот с председателем поеду», – бросила ему и спрятала личико в поднятом воротнике пальто. У Егора дрогнуло сердце – от робкой радости, ожидания чего-то неизведанного. Но он тут же и встревожился – все-таки легковато она была одета для такой поездки, как бы не застудилась. И он молча стоял с вожжами в руках, дожидаясь, пока выходившие из исполкома начальники рассаживались по возкам. Фирштейн потоптался рядом с Зарубой возле синего возка, наверно, хотел сесть с председателем, и пошел к другому. Заруба, не торопясь, устроился возле Полины.
Выехали все вместе, но за Выгонками разъезжались в двух направлениях. Заруба с Полиной направлялись в лесную сторону района, а два других возка сворачивали на Ободь. Полина в дороге почти все время молчала, как всегда, молчал и Заруба. Егор очень неловко чувствовал себя перед ними в своей, будто с неба свалившейся буденовке. Он ждал, что Заруба спросит, где он взял такую, но тот вроде и не замечал. Зато замечали встречные. Дядьки и бабы на санях, что встретились им по пути, как приметил Егор, устремляли свои взгляды прежде всего на него, возчика в буденовке, а потом уже – на его седоков. Оттого у Егора прибывало важности, и он уверенно правил конем, разъезжаясь со встречными на узкой дороге.
Первое собрание проводили в Ободе, в школе. Было воскресенье, дети не учились, собралось немало народа, может, со всего сельсовета. Егор занимался конем и на собрание заскочил только в конце. Взглянул через людские головы: на сцене за красным столом под кумачовыми лозунгами сидели с полдюжины мужчин и среди них Полина, маленькая, с раскрасневшимся лицом и – привлекательная. Выступал Заруба. Говорил о задачах классовой борьбы в деревне, о сопротивлении кулацких элементов, которых надлежало раздавить безжалостной рукой пролетарской диктатуры. Заруба был руководитель опытный. Егор уже знал, что председатель происходил из витебских рабочих. А тут всюду крестьяне – бедняки да середняки... Сколько их ни призывали к строительству лучшей жизни – упрямились, в колхозы шли с большой неохотой, под нажимом партийцев. Даже и в его Липовке за зиму не смогли сорганизовать колхоз, и Егору порой было неловко перед председателем исполкома за своих земляков. Наверно, надо бы как-то съездить туда, давно уже не был. Но не подворачивался случай, дороги вели стороной – район был большой, разбросанный едва ли не на полсотни верст от местечка.
Во второй половине дня провели еще одно небольшое собрание, в придорожной деревне, где сразу записалась в колхоз почти половина хозяйств. Но Заруба сказал, что это ненадежно. Записываются они не впервые, а как только начальство уедет, те списки куда-то исчезают. Кто-то крадет. И опять собирают собрание, опять агитируют вступать. И так несколько раз подряд.
Вечером было решено провести собрание в большой залесской деревне Трикуны, чтобы и заночевать там. Школы в Трикунах не было, мужиков собрали в чьей-то большой избе, наприносили скамеек. Во главе стола село четверо: Заруба с Полиной и двое местных – председатель сельсовета и, наверно, учитель, молодой парень с бледным, чахоточным лицом. Этот выступал вторым, после председателя сельсовета, и такого нагнал на мужиков страху, что те притихли, словно в церкви, никто не смел кашлянуть. Выступающий пугал ГПУ, Сибирью, пролетарской диктатурой. Егор стоял на пороге, не снимая своей буденовки, ловя любопытные взгляды девчат. Держал себя независимо, по-взрослому, и не переставал любоваться Полиной. Та была в своем синем пальтишке; согревшись, сдвинула на затылок платок и выглядела издали, как ромашка, в обрамлении светлых, коротко подстриженных волос. Время от времени она бросала тайные взгляды на порог и незаметно для других, одними глазами улыбалась ему. Егор был счастлив. Лишь в глубине души что-то тревожно ныло, будто болело даже. И он догадывался, отчего болело, как только вспоминал наивную, простодушную Насточку. Но как можно было сравнивать Насточку с Полиной? Стоило послушать, как Полина выступает перед крестьянами, пожалуй, лучше, чем выступал Заруба. Тот будто играл на гармони – уверенно, басовито и сурово. Полина же словно играла на скрипке – тонко и сердечно, предельно убедительно, особенно когда обращалась к женщинам, обещая им счастливую долю. Слушая ее, всякому казалось, что он уже видит ту свою счастливую долю и вот-вот ее обретет. Для этого требовалось совсем немного – поскорее вступить в колхоз. После ее выступления деревенские женщины хлопали в ладоши, мужики, однако, сидели насупясь. У мужиков были свои заботы, и они упрямо держались собственного мнения.
Ознакомительная версия.