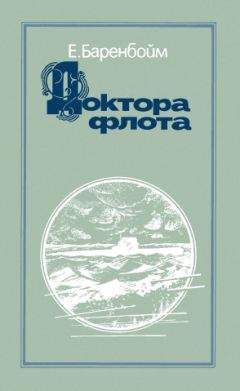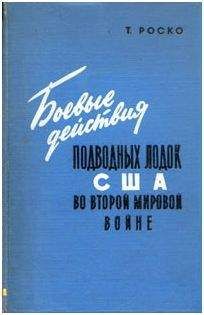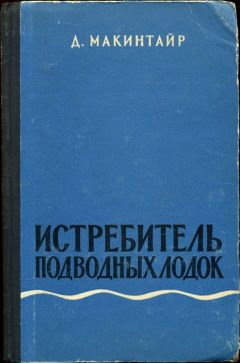— Да ничего. Как было, так и есть.
Алексей заглянул в горло, ощупал шею. Ничего подозрительного не было.
— Ладно, — сказал он, разводя руками. — Шагай к себе. На сегодняшний день тебе освобождение от работ и вахт. Если не пройдет, завтра приходи снова. Будем думать.
И вот срочный вызов.
Алексей торопливо оделся, поднялся на палубу и стал переходить с корабля на корабль к стоявшему крайним судну под номером 45. От Русского острова дул холодный ветер. Он нагнал в бухту волну. Разделенные кранцами корабли терлись друг об друга, скрипели. Брошенные между кораблями трапы то опускались, то круто ползли вверх.
Грибанова он нашел в гальюне. Матрос стоял, низко склонившись над унитазом. Изо рта его на белый фаянс капала кровь. Час назад он проснулся от тошноты и едва добежал сюда — его вырвало кровью. Чувствовал он себя заметно хуже. Боль в горле усилилась. Глотать пищу стало трудно. Алексей вызвал «скорую помощь» и отвез Грибанова в госпиталь. Дежурный рентгенотехник тут же ночью сделал снимок пищевода. На мокрой, не успевшей высохнуть рентгенограмме был виден тонкий, как нитка, металлический предмет, почти поперечно торчащий в стенке пищевода.
— Похоже на иглу, — сказал рентгенотехник хирургу, за долгие годы работы поднаторевший в рассматривании снимков. — Интересно, как она могла туда попасть?
Хирург и вызванный из дома врач ухо-горла-носа почти два часа безуспешно пытались извлечь иглу. Все попытки кончились безрезультатно. Пришлось класть больного на операционный стол.
Это, действительно, оказалась обычная швейная игла, невесть как попавшая в бабкино молоко. Она проткнула стенку пищевода и проходивший в месте прокола сосуд. После операции у матроса начались осложнения. Образовалась тяжелая флегмона шеи. Пришлось повторно оперировать и делать трахеотомию. С большим трудом Грибанова удалось спасти. За трехмесячное пребывание в госпитале когда-то симпатичный смешливый парень неузнаваемо изменился. Его демобилизовали и отправили домой. Все это время, что он лежал в госпитале, Алексей чувствовал себя виноватым.
Уже один раз по его вине больной чуть не отправился на тот свет. В лаборатории у матроса обнаружили заражение редкой формой глистов — широким лентецом. В лекциях по клинической фармакологии было написано, что их можно изгонять хлороформом. Он дал матросу выпить пол-ложки лекарства, и здесь же в медпункте больной перестал дышать. Больше часа до полного изнеможения он делал ему искусственное дыхание, а когда увидел, что тот, наконец, очнулся, сам грохнулся от переживаний и усталости в обморок. И вот, пожалуйста, второй «успех».
Карпейкин заметил подавленное состояние духа своего соседа, посоветовал:
— Брось переживать, чудище. По-моему, все вы на шаманов похожи. Как я, темный человек, разумею — это и называется в медицине набираться опыта. Обошлось и радуйся. Другой раз будешь умнее. Кстати, если бы ты его сразу отправил, что-нибудь бы изменилось?
— Не знаю. Может быть. Игла бы не вошла так глубоко, и ее удалось бы вытащить без операции.
— Да, — глубокомысленно изрек Гриша, потирая свой широкий и плоский, как корабельный пайол, подбородок. — Один мудрец, кажется; Цицерон, сказал: «Кто пострадал, тот не забудет». — Гриша боялся сквозняков и постоянно тщательно закручивал заглушки иллюминаторов. Сейчас он тоже проверил, не дует ли, продолжал: — Другой мудрец говорил: «Совет подобен касторке. Его легко давать, но трудно принимать». Мой совет принять легко. Пойдем сегодня в Дом флота.
Алексей вспомнил маленький сад, жидкие малорослые березки, короткие аллеи, усыпанные красным толченым кирпичом, украшенные выцветшими портретами передовиков боевой и политической подготовки, немногочисленных девиц, за каждой из которых стайкой следовали в кильватер желающие познакомиться, набитый битком душный танцевальный зал.
— Нет, — сказал он, уже готовый забраться на свою верхнюю полку. Недавно он решил не терять времени зря и заняться самообразованием. Выписал в городской библиотеке книги по музыке: «Учебник элементарной теории музыки» Кашкина и Пузыревского, «1000 опер» Ангерта, «Биографии композиторов» Ильинского. — Лучше почитаю.
— Послушай, доктор, — рассердился обычно добродушный Карпейкин. — Мне до чертиков надоело смотреть на твою постную праведную рожу, просыпаться в шесть утра, когда ты, как слон, собираешься в санчасть. Я терпел все это только ради хорошего отношения к тебе. Но терпение кончилось. Не пойдешь со мной сейчас — завтра попрошу Щекотова перевести меня в другую каюту. Не веришь? Даю слово.
Алексей засмеялся.
— Черт с тобой, — сказал он. — Пойду. Хотя знаю наперед все, что там будет, до мельчайших подробностей.
Они сидели рядом в полупустой лодке юли-юли и молчали. О чем думал Карпейкин, Алексей не знал. Сам он думал о Лине. Мысли о ней, как наваждение, как бесконечный мучительный сон. Не приди к ней тогда Пашка, все могло быть иначе. Она жила б в снятой им частной комнатке на Голубинке с окном, выходящим на бухту Золотой Рог. В окно врывались бы дующие с океана ветры, пароходные гудки, звонки трамваев с Ленинской улицы. Он бы спешил к ней, всегда волнуясь, не обращая внимания на пургу или штормовой ветер. И Лина бежала бы к нему навстречу…
Сразу после окончания Академии он приехал в отпуск в село Титовку в сорока километрах от Лубен. Там у сестры отца теперь жили мать с Зоей. Транспорта до Титовки не было, пришлось по жаре идти пешком. Вскоре Алексей догнал старика — босого, в холщовых штанах, соломенном брыле, и они пошли вместе. В Титовку пришли только вечером.
Увидев его, мать заплакала. Она плакала теперь по любому поводу — и от радости, и от горя, плакала беззвучно, не вытирая слез. Она постарела за последние два года, глаза смотрели печально, в руках, как и прежде, она часто держала томик Блока, и Алексей подумал, что стихи для нее, как библия для верующего — мать черпает в них силу.
Спать она постелила ему в садочке под вишней, села в ногах и стала рассказывать, с какими мучениями, без вызова, только со справкой директора школы, они с Зоей добирались от Уила на Украину. Сначала Алексей слушал ее, мучительно борясь с усталостью, а потом уснул.
Он проснулся на рассвете, когда воздух по особому чист и прохладен, а каждый звук в нем чеканен и четок, словно брошенный на дно родника медный пятак. Мама по-прежнему, как и вечером, сидела на тюфяке, обхватив колени руками. Глаза ее были сухи.
— Знаешь, Алешенька, — сказала она, увидев, что сын проснулся. — Нет больше сил бороться за существование. Папа погиб. Ты далеко. Если б не Зоя, не стала бы жить. Но ее я обязана поставить на ноги…
Около дома появился секретарь сельсовета — бывший волжский бурлак, партизан, бритоголовый, похожий на Котовского. Он шел по улице в опорках, ночной рубахе навыпуск и кричал:
— Кондрат! Забор коло сельсовета почини! Мария! Давай на полив сада!
Алексей сел, обнял мать, сказал, гладя ее по черным волосам:
— Ничего, мама, самое страшное позади. Война кончилась. Все наладится. Еще много будет хорошего в жизни.
— Ладно, — сказала мать и вздохнула. — Будем надеяться.
А потом он познакомился с соседской дочерью Галей. От тех сумбурных трех недель в памяти остались тихие рассветы над молчаливой, словно еще не проснувшейся рекой, всплески рыб, длинные ветви ив, как бусы свисающие над водой, пряный запах подсыхающего сена, крупная луна над головой, горячие Галины руки, обвивающие его шею, и жадные губы…
В каюте над столом он повесил понравившееся ему изречение: «Жить — значит жечь себя огнем борьбы, исканий и тревог».
— Жги, жги себя огнем борьбы, — смеялся Гриша Карпейкин, прочитав изречение. — А я буду жить и радоваться.
Гриша действительно был частым посетителем ресторана «Тихоокеанец», обожал танцульки, имел много знакомых девиц.
Они подошли к Дому флота, потолкались у кассы и вошли в битком набитый танцующими зал. Радиола оглушительно громко играла танго.
По пути во Владивосток Алексей познакомился в поезде с Наташей. Она закончила Саратовский медицинский институт и ехала в распоряжение крайздравотдела. Наташа была миловидна, добра, сентиментальна. Треть ее чемодана занимали фотографии киноактрис и киноактеров. Она угощала Алексея из своих обширных, взятых из дома запасов, азартно играла в подкидного дурака, а когда становилось темно, уходила с ним целоваться в тамбур.
Узнав, что поезд на рассвете проехал Байкал, а Алексей не разбудил ее, она расстроилась, едва не расплакалась.
— Я так мечтала увидеть его, — говорила она, с трудом сдерживая слезы.
Сейчас Наташа танцевала с помощником командира плавбазы Витенькой Клыбой. При виде Алексея глаза ее радостно блеснули, щеки вспыхнули. Она остановилась и вместе с партнером подошла к нему.