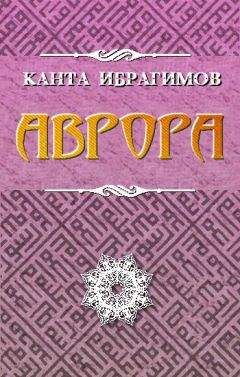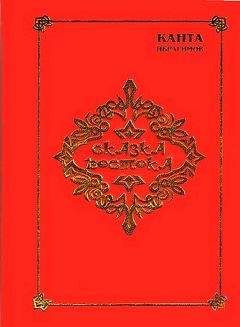Ознакомительная версия.
Малхаз привел массу аргументов, чтобы уйти. Безингер и не слушал, все отвергал.
— Здесь радиация! — не сдавался Малхаз.
— Мне более не рожать, а ты свою долю уже на острове получил — закалился.
— Нельзя осквернять святые места! — наконец, нашелся учитель истории; против этого аргумента доводов не было.
Спуск, да еще в сумерках, был гораздо труднее, и даже радость находки не помогла: полетел Безингер с крутого выступа, лишь густой кустарник смягчил удар, просто спас. Непонятно, как тело, а лицо Безингера сплошь в ссадинах. Однако, хоть и кривит он в боли лицо, а не ноет, не скулит, лишь одно повторяет:
— А каково было ей? Представляешь?
Еще до зари Безингер разбудил учителя истории:
— Сегодня 23, последний день, надо успеть, дни в горах короткие.
Когда тронули — останков оказалось совсем ничего: два черепа, костная пыль и еще затленные крупицы. С особой тщательностью все это Безингер сам собрал, аккуратно уложил в палатку, и пока солнце было еще не высоко, уже по-альпинистски, используя веревки, все это спустили. С сундуком оказалось гораздо сложнее. Вроде и не очень тяжелый, да громоздкий. С трудом они его вытащили через проход и пока обвязывали канатами, не удержали — оставляя взрыхленный след, а потом, ударившись о выступ, он полетел с высоты птичьего полета, и с таким грохотом рухнул, что еще долго-долго по горам витало грозное эхо людского бессилия, и пока этот звук, как испорченный камертон, в диссонанс приглушалось, солнце в миг скрылось, налетели тучи, подул порывистый, холодный ветер с ледников, где-то рядом завыли шакалы; и совсем стало невмоготу, когда очень низко над ущельем пролетел военный российский вертолет, на секунду завис, чуть ли не до мочи, испугал, к счастью, убрался.
— Быстрее, быстрее, — торопил Безингер, вновь полетел; стоная, вкривь, да встал, захромал.
Предвкушал Шамсадов момент, когда Безингер кинется к сундуку, а явно постаревший, осунувшийся, обросший Безингер вновь на коленях ползал меж останками, с неимоверным вниманием, даже с любовью их разглядывал, на две кучки возле черепов раскладывал.
Шамсадов скелетов боялся, не подходил, и нетерпение его просто съедало, было невмоготу.
— Я к сундуку, — не выдержал учитель истории.
— Стой, — строго сказал Безингер. — Первым делом — наш долг. Ана только этого ждала, когда ее по-человечески похоронят.
Было совсем темно, когда на том же месте, которое только раз в году освещает солнце; у самого маленького родника вырыли общую могилу.
— Как лежали, так и похороним вместе, — пояснил Безингер.
— А ритуал? Он иудей, она вроде язычница. Как похороним?
— Как людей, — процедил Безингер, и чуть позже, с досадой, — Какой я идиот, правда, сволочь! Всякое убийственное барахло взял, а о главном даже не подумал… Надо что-то чистое, наподобие савана… О, придумал!
Шамсадов и слово побоялся сказать, не возразил, до того Безингер был строг, сосредоточен. Они будто бы простой ящик, в темноте, волоком притащили сундук, и Безингер, лишь сказав на ходу пару непонятных слов, вонзил огромный тесак.
— Древнее, чистейшее золото, — как в консервную банку обыденно втыкал он нож, резал ровно пополам, по едва выпуклому шву.
Малхаз всё дрожал, стоял наготове, мечтая осветить лучом.
— Выключи, — приказал Безингер. — Это потом.
Что-то тяжелое, рельефное они осторожно вытащили из золотого ящика, и больше к этому содержимому не возвращались, мирские были заботы.
Безингер осторожно разложил останки в две золотые коробки и только он закончил; одна, вторая, третья капля, и следом щедро, тихо, без порывов и ветра, пошел весенний, теплый, благодатный дождь.
— Ана-то святая, а Бог милостлив и Зембрию Мниха простил, обоих омывает… Счастье! — еле слышно сказал Безингер, стоя на коленях меж золотыми ящиками, сгорбившись под дождем, будто сам омывается.
— Я поставлю палатку, — тихо предложил Малхаз.
— Да, отдохни до утра… А я матери никогда не знал, не видел, — задрожал голос старика. — И вот встретил… хотя бы ночь с ней проведу, ее нежность и ласку познаю…
…Брезжил рассвет, небо над Кавказом чистое, бездонное, голубое; уже без звезд, лишь на западе бледная, остроконечная луна и еще яркая Венера запоздали, ухватились за вершины гор, не хотели прощаться с Аной.
Было зябковато, по-утреннему свежо, очень тихо, слышен трезвон родничка, когда Малхаз вылез из палатки — свернувшись в калачик, Безингер спал меж золотыми ящиками прямо на сырой земле.
— Вставайте, Вы простудитесь, — склонился Шамсадов.
Кряхтя, сопя, Безингер еле встал, с трудом выпрямился и улыбнулся.
— Не простужусь, мать рядом, — и оглядев небо, — хорошо, что разбудил — пора.
Без особого ритуала, без пафоса церемоний, речей и слез, в благоговейном молчании они свершили великое погребение; и напоследок, обеими руками бережно погладив холм, Безингер тихо сказал:
— Лишь об этом Ана нас просила, этого, человеческого долга более тысячи лет ждала.
А Шамсадов, что греха таить, может, как учитель истории, уже давно в сторону косится, с доселе неведомым трепетом он и хотел, и в одиночку не смел приблизиться к великой тайне — цельная глыба странного камня с красочной мозаикой, ассиметричной структуры и на ней, едва видимые, то ли высеченные, то ли еще как образованные, загадочные изображения в пирамидальном порядке.
С грязью под ногтями; толстыми, огрубевшими за эти дни пальцами Безингер осторожно погладил монолит.
— Малхаз, твое упорство и способность не отчаиваться, благодаря Ане, и, конечно, Богу, мы с тобой достигли цели. Это, действительно, Божье послание. Вот древний знак единого Бога! А далее, одна из древнейших на земле письменностей — шумеро-семитская клинопись… Врать не буду, незадолго до зари, как только дождь перестал, я и сам не выдержал, с фонариком уже здесь ползал, ничего не понял, не вспомнил; и как всякий мирянин поддался искушению, даже у Аны ответа просил — тишина. И сам не знаю, как я впал в сон, и приснилась мне она, еще краше, почему-то, может, по-матерински проще, и сияет улыбкой в солнечных лучах.
— А надпись, что изображено — не подсказала? — о другом воскликнул Шамсадов.
— В том-то и дело, что загадочно, мило улыбнулась, но ни слова не сказала.
— Зря я Вас разбудил, рано, — озадачился Малхаз, походил в раздумьях вокруг послания, все оглядел, — Так Вы ведь лингвист, специалист по древним языкам?
— Хе, — усмехнулся Безингер. — Мало того, я по шумеро-семитской клинописи докторскую защищал, даже словарь составил.
— Ничего, — как обычно, не теряет оптимизма Шамсадов. — Мы это сокровище к Вам отвезем, и там спокойно это Божье послание расшифруем… Теперь я абсолютно уверен — это, действительно, формула мира, мир будет в наших руках!
— Ничего никуда мы не повезем. Все находится на положенном, своем месте… А ну, подсоби.
— Да Вы что, это кощунство, издевательство, варварство; это должно принадлежать людям, должны исследовать ученые! — закричал Малхаз, когда Безингер стал устанавливать послание, как надгробный памятник.
— На Кавказе старших не только почитают, в первую очередь — слушают, — более чем спокойно реагировал Безингер. — Поверь мне, если мы с тобой растрезвоним об этой уникальной находке, то не сегодня, так завтра найдется какой-нибудь заумный богатей, всякими способами завладеет посланием, и вновь, еще на тысячу лет, может, до конца, замурует божественное слово, пусть даже и в платиновый, да ящик. В лучшем случае — попадет в музей, тоже под стекло, под бронь, под охрану… А тут прямо на земле, под небом, под Богом, открыто, доступно, вольно, и разнесет это добро вместе с ветерком по всему свету.
И вместе с этими словами прямо над вершиной близлежащей горы, будто скрывалось за перевалом, выплыло ласковое, теплое, весеннее солнце.
— Дела! — воскликнул Малхаз, — и сегодня солнце заглянуло в это ущелье!
— А оно теперь всегда будет сюда заглядывать, — задорен голос Безингера. — С научной точки зрения все объяснимо. Земля постоянно смещается вокруг своей же оси, и за тысячу лет все меняется. Но это по науке. А только мы знаем, что послание здесь, Ана здесь и солнце, впредь, всегда будет здесь, над Чечней, над Кавказом!
— Смотрите, смотрите! — воскликнул Малхаз, как художник поразившись перевоплощению.
Искоса, словно нежно поглаживая, дыханьем целуя, солнечные лучи вскользь, играючи, шаловливо, с забавой коснулись камня и по-новому, четко, объемно, рельефно Высветилось совсем иное отображение Послания.
— Боже! Боже! — прошептал Безингер, падая на колени.
— Что там?! Что?! — туда же уставился Малхаз.
— Боже! Все так просто! Это, действительно, формула мира, мир теперь в наших руках!
— Читайте, переводите, — затеребил Шамсадов плечо Безингера.
— Передаю:
Люди!
Будьте Человеками!
Всемерно познавая — знайте меру,
Берегите созданный для вас Мир!
* * *
Утро гор, на Кавказе, весной!
Ознакомительная версия.