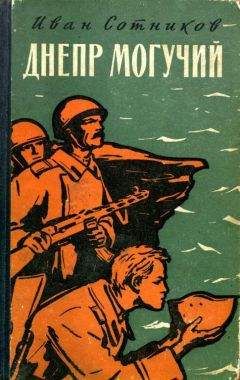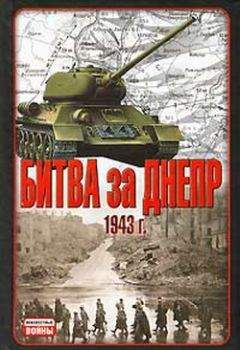— Урааа! — единым вздохом ахнул строй, и гулкое эхо пронеслось и по деревне, и по окрестным полям, и по широкой дороге, лентой уходившей к Белгороду.
От неожиданности Бондарь вздрогнул и тут же, поняв, что случилось, подхватил и вместе со всеми закричал «Урааа!» Он не видел и не знал, что вместе с прибывшим пополнением так же чутко и напряженно слушали его речь и также вдохновенно кричали «Урааа!» солдаты, оставшиеся в батальоне, и высыпавшее из домов местные жители.
* * *
Пулеметная рота, последней уйдя с передовой, еще не успела разместиться в отведенных ей домах, как прибыло пополнение, и помощник командира второго взвода Козырев был вызван к Черноярову.
— Дробышев в штабе полка дежурит, — явно недовольный чем-то, хмурясь, сказал Чернояров. — Вот пополнение принимайте, — кивнул он в сторону троих солдат, стоявших около дома. — Укомплектуйте расчет Чалого. Наводчиком будет вот он, Гаркуша, помощником Тамаев, а подносчиком патронов Карапетян.
— Слушаюсь! — ответил Козырев и, получив разрешение Черноярова идти, кивнул солдатам:
— Пошли, товарищи!
Когда Козырев, а вслед за ним Гаркуша, Алеша и Ашот вошли в сумрачную, с подслеповатыми, наполовину заложенными фанерой окнами избу, Чалый, сидя на застланном соломой полу, возился с тремя малышами. У зевластой печи, подложив под щеку темную руку, стояла хозяйка дома и умиленно смотрела на притворно суровое лицо горбоносого солдата и своих развеселившихся детей. По ее склоненным хрупким плечам и озаренному улыбкой худому лицу Козырев понял, что она впервые за долгие полтора года оккупации и счастлива и спокойна.
Чалый, увидев Козырева, поспешно встал, поправил гимнастерку и смущенно улыбнулся. Его, окруженные сетью морщин, обычно суровые глаза так же, как и глаза хозяйки, сияли радостью и счастьем.
— Дядя Боря, куда же вы? — прокричал с пола самый старший, чумазый мальчишка лет восьми.
— Куда, дядя, куда? — спросила и девочка поменьше, а самый младший, карапуз лет четырех в коротенькой рубашонке, обхватил ручонками сапог Чалого и со всей силой тянул к себе.
— Вот видите, — подхватив мальчика на руки, радостно сказал Чалый. — Полдня играем и никак наиграться не можем.
— По отцу истосковались, — горестно вздохнув, прошептала хозяйка.
— На фронте? — глядя на ее не по возрасту постаревшее, с запавшими глазами лицо, спросил Козырев.
— На фронте, — с тем же горестным вздохом ответила хозяйка и вдруг, мгновенно преобразясь, просияла и продолжала веселым, дрожащим от радости голосом:
— Третьего дня письмо получили, первое за всю войну. Как ушел на второй день, так будто в воду канул. Я уже и не чаяла о живом-то о нем услышать. Только во сне почти кажну ночь видела. Гадать ходила. Бабка тут одна у нас есть, хорошо ворожит. Раскинет карты: жив твой Микола, говорит, болезни переносит, но живехонек, ты жди, говорит, его Федосья, не сумлевайся. А как не сумлеваться, она, бабка-то, почитай, всем так нам, солдаткам, говорила, обнадеживала, видать, чтобы не отчаивались. А мы-то слышим-послышим: тот убит, другой убит, тот пропал безвестно, а иной в плен угодил. А плен-то хуже смерти.
Федосья смолкла, вытерла кончиком платка слезы и опять, озарясь мечтательной улыбкой сказала:
— А мне-то бабка правду на картах напророчила. Жив Микола мой, ранен два раза, пишет: в госпитале лечился, орден ему дали, а теперь опять воюет, под Ленинградом гдей-то.
И горестный и радостный рассказ хозяйки взволновал всех. Присев к столу, Козырев упрямо склонил крупную голову и до боли стиснул в кулаки огромные волосатые руки. Чалый прижал к себе всех троих притихших ребятишек и, раскачиваясь, молча убаюкивал их. Алеша, не отрывая взгляда от постаревшего лица Федосьи, жадно слушал ее и с каждым словом все ощутимее и болезненнее на месте хозяйки и ее детей представлял свою мать, двух младших братишек и пятилетнюю сестренку.
Ашот нетерпеливо переминался с ноги на ногу, вздыхал приглушенно, закрывая рот ладонью, покашливал и, словно боясь взглянуть на хозяйку, все время смотрел на выбитый земляной пол. Даже неугомонный Гаркуша примолк и стоял не шевелясь, будто навеки пристыл к дверной притолке.
— А вы как же тут при немцах-то жили? — не поднимая головы, хрипло спросил Козырев.
— Какой там жили! — безнадежно махнула рукой Федосья. — В погребе скрывались больше, а летом — в бурьянах, в огороде. Тут, в избе-то, немцы хозяйничали. Одни уйдут, другие приходят. Так и тот год и этот. Вот уж зимой нынче корову мою порешили. Берегла я ее, в яме за огородом прятала. Разнюхали, проклятые, враз раскромсали бедняжку и по кускам растащили. Овец-то еще в прошлом годе, как танки ихние к нам заскочили, всех перерезали. Потом кур постреляли из автоматов, уток тоже — три штуки у меня было, на племя оставляла. И вот самой последней Пегашку нашу безрогую… И остались мы ни с чем. Слава богу, хоть картошки удалось припрятать немного да свеклы штук с полсотни сберегла. Вот и кормились мы одной картошкой, а со свеклой пили чай, вроде заместо сахару, вприкуску. Теперь-то хорошо. Муки нам дали целых два мешка, крупы гречневой и пшеницы почти целое ведро. Вот только ни скота нет, ни кур.
— Будут, будут и скот и куры! — с яростью проговорил Козырев. — Все у нас будет, а с ними, с паразитами, мы сполна поквитаемся! Вот! — повернул он багровое, с черным на подбородке шрамом лицо к Алеше и Ашоту. — Вот за что воюем мы, за что ни крови, ни жизни своей не щадим! За жизнь людей наших, за то, чтоб не измывались над ними гитлярюги разные!
От гневного, дрожащего голоса Козырева, от его налившегося кровью сурового лица и особенно от обжигающего, пронизывающего насквозь взгляда сердитых глаз Алеша замер. Он всем своим существом чувствовал, как в него вливается что-то новое, сильное и неудержимое. Все, что слышал и знал он о войне до этого, померкло, почти исчезло из памяти, и вместо него нарастали и ширились новые понятия, еще не совсем ясные, но уже ощутимые, как что-то страшное, чудовищное, угрожающее самой жизни народа, всем тем, с кем он жил и кого считал своими людьми.
* * *
Распределив пополнение по ротам, Бондарь вернулся в свой дом, но не успел снять шинель, как, распахнув дверь и почти всю ее загородив собою, в избу ввалилась женщина могучего сложения с сержантскими погонами на добротной, ладно подогнанной шинели. Беглым взглядом она по-хозяйски осмотрела комнату, не по комплекции легко шагнула и остановилась перед удивленным Бондарем.
— Товарищ капитан, — по-военному, четко приложив руку к ушанке, заговорила она низким грудным голосом. — Санинструктор Степовых и санитарка Федько прибыли в ваше распоряжение.
— Очень хорошо. Здравствуйте! — все еще не оправясь от неожиданности, сказал Бондарь и, не зная, что делать дальше, спросил:
— А где же санитарка?
— Вот она! — отступая в сторону, ответила Степовых, и Бондарь увидел хрупкую, невысокую девушку лет восемнадцати с бледным, словно испуганным лицом и настороженными васильковыми глазами.
«Сама-то Степовых любого раненого вытащит, а эта Федько, она-то как же?» — подумал Бондарь и совсем не по-командирски предложил:
— Садитесь, пожалуйста.
— Спасибо, — с достоинством ответила Степовых. — Садись, Валя.
«Фу, черт, что же с ними делать? — лихорадочно думал Бондарь (он никогда еще не имел в своем подчинении женщин). — О чем же с ними говорить-то? Не про луну же, не про цветочки!»
— Ух и умаялись мы, пока добирались, — вытирая лицо белоснежным платочком, сказала Степовых. — И на машинах, и на подводах, и пешком. А грязища кругом — не пролезешь.
— А вы издалека? — радуясь, что санинструктор выручила его из затруднения, спросил Бондарь.
— Аж с самого батюшки Урала, из города Свердловска. Целый эшелон нас, медработников, привезли. До Курска-то хорошо, поездом, в теплушках, как дома. А вот из Курска кто как знает по своим по частям добирались.
Санинструктор смолкла, и Бондарь, опять не зная, о чем говорить, смущенно опустил глаза и, может быть, долго просидел бы так, но инстинктивно всплыл нужный вопрос.
— Простите, — сказал он точно так, как говорят не командиры с подчиненными, а обыкновенные мужчины при знакомстве с женщиной, — а как ваше имя и отчество?
— Я Марфа, Марфа Петровна, а она Валя, Валентина Матвеевна.
— Ну что ж, Марфа Петровна, — солидным тоном, сам не понимая, откуда взялся этот тон, сказал Бондарь. — Вам с дороги отдохнуть нужно. Идите в соседний дом справа, располагайтесь там и отдыхайте.
— Есть идти в соседний дом справа, располагаться и отдыхать, — удивляя Бондаря, по-военному отчеканила Марфа.
— Ох и пойдет теперь кутерьма, — проводив Марфу и Валю, проговорил Бондарь. — И зачем только берут женщин в армию!
* * *
— Ну вот, Валька, и добрались мы аж до самого фронта, — говорила Марфа, осматривая отведенную хозяйкой крохотную комнатенку. — И крыша над головой, и кровать, видишь, хоть и плохонькая, но не то, что шинель подстелила, шинелью оделась, шинель под голову подложила.